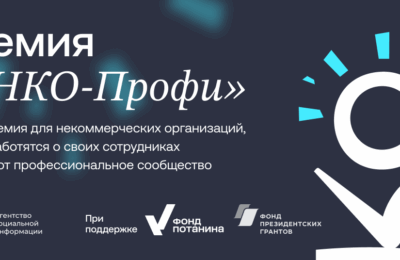Интервью с Марией Черток, директором фонда CAF Россия, – часть проекта Агентства социальной информации, Благотворительного фонда В. Потанина и «Группы STADA в России». «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал кроссмедийный, выходит в партнерстве с порталом «Вакансии для хороших людей» и «Новой газетой».
Реформаторский драйв
Я знаю, что ты по образованию социолог, закончила МГУ. Ты успела поработать по специальности или тебя дорожка сразу вывела в благотворительность?
После университета я поступила в аспирантуру, но довольно быстро оттуда ушла. Там были какие-то внутренние противоречия на кафедре, под которые я попала, никакого отношения лично ко мне они не имели. Так что по сути как таковой социологией я не занималась после окончания учебы.
А чем занималась? Как получилось, что попала в сферу благотворительности?
Все получилось, как это у меня обычно бывает, довольно случайно. Я еще во время учебы в университете сотрудничала с несколькими экспертными группами, которые занимались различными реформами: в сфере образования, судебно-правовой. В частности, тогда внедрялся суд присяжных, и это была очень интересная работа с группой Сергея Анатольевича Пашина, который возглавлял тогда отдел судебной реформы в Государственно-правовом управлении при президенте. Это было время реформ –начало 90-х годов.
То есть появление института суда присяжных было инициировано государственной структурой?
Да, источником реформы был вот этот отдел. Но параллельно там участвовала, например, Российская правовая академия, которая получала гранты от Фонда Форда и еще какие-то американские гранты, за счет которых люди вроде меня и многие другие, не находящиеся внутри госструктуры, имели возможность вносить свой посильный вклад на проектной основе.
Поскольку мое профессиональное становление пришлось вот на эти ранние 90-е, когда был очень сильный реформаторский драйв, наверное, отсюда и возникло ощущение, что мир, действительно, можно менять.
И потом я пришла работать в начале 1996 года в Фонд Форда. У них была программа по судебно-правовой реформе и правам человека. Дальше уже внутри у меня происходило какое-то тематическое расширение. Я попала в том числе в программу про гражданское общество. И собственно, оттуда довольно скоро пришла в CAF.


Через какое время?
В середине 1997 года. Всего полтора года я там проработала. Это было очень интенсивное время. Я познакомилась с кучей людей, тогдашних, можно сказать, передовиков гражданского общества. Часть из них до сих пор «в обойме», часть из них давно уже ушли со сцены.
Кого-то уже и нет с нами…
Ну да. Просто тогда было очень живое правозащитное сообщество. Сейчас многих, действительно, уже нет. Например, Валерия Абрамкина.
А вы с ним тоже пересекались?
Да, мы с ним довольно плотно пересекались.
Тогда же я познакомилась, например, с Антоном Лопухиным, который возглавлял Ассоциацию юных лидеров, а сейчас — Ресурсный центр для некоммерческих организаций при Комитете общественных связей города Москвы. То есть за эти годы, конечно, видишь очень разные карьеры.
И траектории…
Да, и траектории людей, которые иногда, когда ты вдруг припомнишь, с чего все начиналось, даже ошеломляют в каком-то смысле…
Кузница кадров
В CAF ты в качестве кого пришла?
Я попала в CAF как руководитель новой программы, поскольку там тогда никто не знал про то, как давать гранты, никто этим не занимался до этого. А я в Фонде Форда уже получила об этом какое-то представление.
Новая программа называлась «Партнерство в некоммерческом секторе». И она была направлена на развитие сектора и укрепление взаимосвязей между российскими НКО и их коллегами в Великобритании и других восточно-европейских стран.
Интересно. Вот я бы никогда не подумала, что в CAF до 1997 года никто не занимался грантами.
Нет. На тот момент еще не было этой практики вообще ни у кого, кроме иностранных доноров.
А сколько лет уже было CAF тогда?
Четыре года. Он начала работу в России с 1993 года, сейчас мы как раз 25-летие отмечаем.

Оля Алексеева уже была директором на тот момент?
Нет, еще не была. Это иллюзия, что она была директором CAF с самого начала. Она работала с самого начала. Но как раз, когда я пришла, было смутное время, переход власти.
В этот момент закончила свою директорскую карьеру Лена Абросимова. И директором стала Ребекка Кронин, которая до этого тоже работала в CAF. А Оля была ее заместителем. После того как Ребекка уехала, был придуман институт содиректоров. Было два содиректора: один — Оля, а второй — Дженни Ходжсон, которая сейчас возглавляет Глобальный фонд местных сообществ. И некоторое время такое вот двоевластие у нас было, это был любопытный эксперимент в области управления некоммерческой организацией, вполне успешный. А уже потом Оля стала единоличным директором, кажется, это было в 2000 году.
Вообще получается, что CAF – своеобразная кузница кадров?
CAF, несомненно, кузница кадров, потому что куда ни глянешь — везде наши люди, которые, может быть, себя уже и не очень идентифицируют как «наши люди». Они уже прошли длинный, свой особый путь. Но, например, когда я пришла, одним из юристов CAF была Дарья Милославская. Наташа Каминарская пришла к нам на программу развития фондов местных сообществ. После нее этой же программой занимался Вадим Самородов.
За эти годы было много ярких людей, которые у нас долго или коротко работали: та же Лена Абросимова, Света Рубашкина, Полина Филиппова, Инга Пагава и много кто еще…
Да и я тоже больше 10-ти лет была связана с CAF… Но вернемся к началу. Долго ты занималась грантовой программой, с которой пришла?
Да, это была довольно длинная программа – и по деньгам, и по времени. Мы давали большие гранты и поддержали тогда очень многие организации, которые были и остаются системообразующими в секторе. Такие, например, как «Перспектива» или «Ночлежка». Были, конечно, и такие, которые сейчас сошли со сцены.

Деньги тогда только западные были?
Да, тогда были только западные деньги. В 1998 году у нас появилась первая российская грантовая программа — «Новый день», которую финансировал Росбанк. Это была первая корпоративная грантовая программа в России. Она получилась благодаря тому, что случился кризис 1998 года, тогда вдруг всем пришлось поджаться, затянуть пояса. И эта программа стала для Росбанка эффективным выходом из ситуации. Ну а дальше все уже как-то более или менее начало раскачиваться, но еще довольно долго российских денег почти не было, и мы тогда даже мерили свою успешность по тому, какое у нас соотношение российских и иностранных денег. Иностранные деньги очень долго превалировали.
Сейчас наверное иностранных денег уже значительно меньше?
Да, конечно. Кроме того, что касается средств бизнеса: там уже довольно сложно распознать, какой бизнес российский, какой иностранный. А в общем, все это давно уже перестало быть актуальным вопросом.
«21 год на одном рабочем месте»
Получается, что ты работаешь в CAF более 20 лет?
Да. Это звучит как приговор (смеется).
Прикипела?
По жизни, да.
Когда ты сюда только пришла, сразу было ощущение, что это твое и что это люди, с которыми на одной волне?
Люди тогда довольно быстро менялись. Была, конечно, прикольная компания.
Я помню, как ты рассказывала, что приходила, а они все время выпивают и закусывают…
Да, да. У меня было странное ощущение, что каждый день выпивают, каждый день что-то празднуют и не очень понятно, работают ли вообще. Но сейчас мы понимаем, что мы работаем, конечно, а не празднуем все время.


Ты думала тогда, что карьера сложится именно здесь?
Нет, конечно, у меня не было каких-то карьерных планов и амбиций. Я вообще не очень понимала, чем хочу заниматься. Может, я до сих пор не очень это понимаю… Но так уж получилось. Да, это звучит довольно страшно: 21 год на одном рабочем месте, фактически как приговор: что уже больше ни на что не годен.
У нас, на самом деле, очень много людей работают очень давно. И не потому, что они ни на что больше не годны. Когда люди от нас уходят, они уходят с очень хорошими следующими карьерными переходами.
Потому что у нас все время происходит какое-то развитие — как самой организации, так и той работы, которой каждый из нас занимается. И я развиваюсь как руководитель. А директор я уже 13 лет.
Да, хорошая цифра.
Поэтому нескучно. Нет ощущения, что все застряло. Хотя, конечно, мысли о том, что где-то там есть что-то совсем другое, какая-то другая жизнь, они иногда появляются.
С одной стороны, конечно, люди должны выходить из зоны комфорта, и мы из нее выходим, когда начинаем новые вещи, в которых мы не уверены, принимаем какие-то риски.
Но с другой стороны, например, не хочется же работать с неприятными людьми. Хочется работать с людьми приятными. И это не та зона комфорта, из которой хочется выходить. К счастью, здесь все у нас как-то так устроено, что мы сами как трудовой коллектив – все довольно приятные люди. Да и наш сектор состоит, как правило, из приятных людей. Может быть, есть и не очень приятные и неприятные, но ты готов с этим мириться в силу того, что они делают.
Но в целом оклады, конечно, поменьше, чем в других местах, в бизнесе, например.
Но зато и смысла больше. Я далека, конечно, от того, чтобы говорить, что у них там в корпоративном секторе никаких смыслов нет, они чисто за деньги работают, а мы вот тут — за смыслы. Но, тем не менее, здесь очень этот смысл близок и читается прямо сразу, что для людей с не очень развитой фантазией, вроде меня, важно.
Тебе сразу легко было стать директором?
Нет, сначала был довольно сложный переход. Особенно потому, что я стала директором после Оли Алексеевой и это как бы… накладывало.
Оля сидела на работе с восьми утра до восьми вечера, как минимум. Она жила здесь. Мне казалось, что я тоже должна так делать, а сил у меня физических на это никаких не было. Я вообще на работу к восьми утра прийти не в состоянии, честно говоря. Да, был какой-то первый период, когда мне было очень тяжело, в том числе просто физически.
А дальше я поняла, что так не может продолжаться — это никому не хорошо: ни мне, ни моей семье, ни организации. Она вовсе не требовала от меня таких жертв. Ну и как-то я смогла все это перестроить. Стала больше доверять людям, с которыми работаю.
Оля любила быть везде. А я совершенно не стремлюсь к этому. Я считаю, что в организации, особенно в такой крупной, как наша, должно быть больше одного публичного лица.

Насколько для тебя актуальна тема выгорания?
Выгорание происходит, я думаю, когда работают непосредственно с целевой группой, с клиентом, с нуждающимся и хочется сердце вырвать из груди и отдать. Мы все-таки инфраструктурная организация и не работаем напрямую с нуждающимися и даже мало их видим, честно говоря. Бывает забавно, когда к нам приходят устраиваться на работу и говорят: «Хочу помогать людям». И совершенно нет понимания того, что мы, конечно, людям помогаем, но не сидя у одра. Поэтому, наверное, в этом смысле выгорания нет.
Но, может быть, какой-то аспект выгорания связан с тем, что очень многие вещи, которые мы уже столько раз проходили, и казалось, что мы больше никогда к этому не вернемся, опять возникают, снова и снова. Уже все аргументы исчерпаны. Иногда ощущение замкнутого круга накрывает. Становится как-то обидно, потому что ну столько лет уже говорим, неужели все зря?
Например, какие есть больные вопросы, которые все время воспроизводятся?
Непреходящая тема, что «НКО надо учиться у бизнеса». Я вот прямо обожаю эти разговоры… Уже, на мой взгляд, пора их прекратить и рассказывать про то, как бизнесу надо учиться у НКО.
Кризисы как стимул развития
Скажи, пожалуйста, вот такая длинная-длинная история у организации, можем мы вспомнить какие-то кризисные точки, когда резко все менялось? Как выходили из этого? Какие там были, не побоюсь этого слова, управленческие решения?
Сначала в 98-м году мы потеряли кучу денег…
У меня была целая статья про то, как кризисы помогли развитию благотворительности, не очень давно. Я думаю, что большинство кризисов, к сожалению, спровоцировано в первую очередь внешними обстоятельствами.
Кучу денег потеряли. Банк накрылся?
Да.
И что стали делать? Что-то пришлось резко закрывать?
Нашли какое-то решение. Это был новый грант, который мы даже не успели начать тратить.
Не было такого, что надо было половину людей уволить. Я думаю, что мы после этого очень аккуратно начали подходить к нашим собственным грантам, которые мы выдавали, делить их на маленькие транши, чтобы если уж будут потери из-за того, что банки ненадежны, чтобы они были небольшие.
Ну и в целом какая-то такая идея риск-менеджмента проникла в наши управленческие головы. Сейчас, конечно, она прочно в них сидит, потому что мы стали гораздо больше и у нас в связи с этим и рисков стало больше.

А сейчас какие проблемы есть?
Конечно, очень большая проблема — закон об иностранных агентах и нежелательных организациях. Потому что все-таки часть нашей деятельности – это деятельность филиала британского благотворительного фонда.
Уже где-то году в 2006-м начало меняться отношение к иностранным организациям, потому что до этого никаких проблем с этим не было. Мы тогда приняли решение создать российскую организацию, которая тоже называется фонд «КАФ». И сейчас это российская организация уже не меньше, чем филиал CAF.
Там только российское финансирование?
Да, Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» получает исключительно российские деньги. Это полностью российская организация, получает государственное финансирование в виде президентских грантов и т.д. Это было правильное своевременное решение.
Мы говорили про внешние риски. А как с внутренними обстоит дело? Насколько часто бывают конфликтные ситуации? Как они решаются? Какой бы, ты вообще сказала, у тебя стиль руководства?
Сверхдемократичный. У нас, в принципе, никогда существенных конфликтов внутри не было. Понятно, что всегда возникают ситуации, которые требуют какого-то разруливания.
Но я думаю, что в организации есть понимание, что мы более-менее одним делом занимаемся. Всегда находится компромисс, какое-то решение.
У нас вообще довольно позитивный настрой внутри. Мы, скорее, ищем, как сделать что-то, а не почему мы не можем это сделать. В течение этих лет сформировалась каким-то образом такая культура, и слава Богу, она работает.

Сейчас все стабильно существует — количество сотрудников, программ? Или идет расширение?
У нас нет какого-то радикального расширения: в течение последних нескольких лет примерно находимся в одной и той же весовой категории. Нам так обычно везет, если вдруг какая-то программа заканчивается, начинается новая. У нас, в принципе, были ситуации, когда закрывались большие программы. Например, программа «Линия жизни», которую мы начинали, в свое время была полностью передана в фонд «Линия жизни». Это был очень большой кусок нашей работы. Когда-то очень давно мы работали с ЮКОСом, это была очень большая программа. Потом она по понятным причинам резко закончилась.
В принципе, мы научились видеть позитив в том, что мы, как инкубатор, какие-то программы придумываем, начинаем, их доноры финансируют. А дальше они либо становятся самостоятельными, либо донор их начинает реализовывать сам.
Например, такая ситуация была с программой «100 классных проектов» РУСАЛа.
Это еще один наш такой вклад в сектор. Хотя временные трудности окончание программ для нас создает, потому что надо как-то замещать потери бюджета, людей перекидывать на другие направления и так далее. У нас, кстати, очень редко бывает, что люди уходят в связи с тем, что программа заканчивается, и нам нечего предложить, за всю историю, может быть, было пару-тройку раз.
О личностном росте
Расскажи, как ты ощущаешь, за такой долгий период работы в одной организации происходит личностный рост?
Полное отсутствие личностного роста (смеется).
Ну, ты стала международным экспертом, входишь в состав редколлегии международного журнала «Alliance». Ты признанный эксперт многих международных конференций.
Да, это мне интересно.

Что тебе кажется твоим личностным приобретением?
Я уже говорила, что научилась гораздо меньше контролировать и больше доверять своим коллегам, сотрудникам. У многих моих сотрудников есть очень сильные стороны и экспертиза, которых нет у меня. Это хорошо, именно поэтому они здесь работают, потому что умеют делать такое, чего другие не умеют. Поэтому, когда ты меня спрашиваешь, какой я руководитель, вот такой я руководитель.
В некотором смысле я руковожу спустя рукава. То есть сам процесс руководства не доставляет мне никакого удовольствия. Я, скорее, консультант для людей, которые знают, что они делают. Ну или мы что-то вместе придумываем и потом реализуем.
А что доставляет удовольствие?
Содержательная работа, придумывание каких-то новых ходов, поворотов, проектов. Мне нравится, что мы столько занимаемся исследованиями, потому что это реально фиксация знания, которое всем полезно и интересно. Я считаю, что в этом большая ценность нашей работы, потому что то, что мы делаем, основано на доказательствах. Есть доказательная медицина, а у нас — доказательная благотворительность.
Расскажи, пожалуйста, о каких-то новых вещах, которые начали делать недавно. Из того, что раньше не пробовали.
Два года назад мы начали в России «Щедрый вторник». Это такой, казалось бы, довольно простой проект: Всемирный день благотворительности. Когда в один день, в последний вторник ноября, все занимаются благотворительностью, все про нее рассказывают, и такая всеобщая милота наступает. Это все, может быть, снаружи выглядит довольно просто и линейно, но на самом деле все далеко не так просто.

Главная организующая идея состоит в том, что важно начать движение и ожидать, что другие подхватят.
Ты не можешь все организовать сам, ты не можешь контролировать ситуацию. Ты можешь, конечно, вносить свой вклад в нее, но при этом — подхватят или не подхватят, пойдет ли эта волна и вирус – это большой риск.
Мы на себя этот риск приняли, и пришлось нам начать по-другому работать. Потому что реально невозможно контролировать больше 2 тысяч партнеров, которые были у нас, например, в прошлом году. И было практически удвоение по всем показателям вовлеченности людей. В этом году, надеюсь, будет еще больше.
Но начать делать все это — было довольно-таки стремное решение… И внутри было сопротивление, со стороны коллег, которые не понимали, почему мы сейчас должны приложить такое большое усилие. Оказалось, что это была продуктивная идея, и результат нас тоже радует: пожертвования в НКО в этот день увеличиваются в два раза по сравнению с другими днями. Будем продолжать и дальше.

***
«НКО-профи» — проект Агентства социальной информации, Благотворительного фонда В. Потанина и «Группы STADA в России». Проект реализуется при поддержке Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Информационные партнеры — журнал «Русский репортер», платформа Les.Media, «Новая газета», портал «Афиша Daily», онлайн-журнал Psychologies, портал «Вакансии для хороших людей» (группы Facebook и «ВКонтакте»), портал AlphaOmega.Video, Союз издателей «ГИПП».