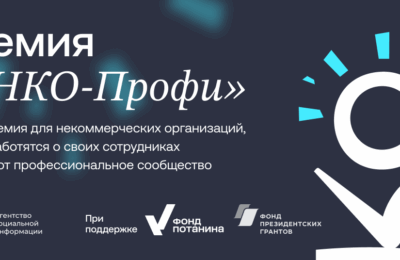Интервью с директором Самарской общественной организации «Домик детства» – часть проекта Агентства социальной информации и Благотворительного фонда В. Потанина. «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал кроссмедийный, выходит в партнерстве с Les.Media и порталом «Вакансии для хороших людей».
Почему детский дом
Ваша история благотворительности началась, насколько я знаю, с волонтерства – в 2008 году вы пришли в детский дом, стали общаться с детьми. А почему это был именно детский дом? Не больница, например, не дом престарелых?
Почему именно детский дом? Да потому, что все в моей жизни достаточно случайно идет по течению, никаких специальных действий или каких-то там глубоких мотивов заниматься именно этой сферой у меня не было. То есть, если бы я случайно попал в какую-то экологическую повестку, я бы занимался, наверное, до сих пор экологией и защитой животных. Тогда коллега по работе просто пригласила поехать с ней в дом ребенка, она на тот момент уже давно волонтерила. Если бы она пригласила меня к пожилым в пансионат, то, возможно, все было бы по-другому.
Коллега по какой работе была?
IT, я айтишник, это моя основная профессия.
Ну вот ездили вы, ездили в дом ребенка, а как пришло решение, что фонд нужен?
Сначала я ездил в составе неформальной волонтерской группы в дома ребенка, школы-интернаты с подарками, мастер-классами и какими-то еще мероприятиями. Где-то года два, наверное, так продолжалось, а потом это неформальное волонтерское объединение стало разваливаться из-за внутренних терок. Я и еще человек девять-десять решили сделать что-то свое. Мы продолжили работать с учреждениями, с которыми были выстроены отношения, составили новую группу, назвали ее «Домик детства». Это тоже была просто волонтерская группа, а потом через год уже, в 2011 году мы поняли, что, если хотим повышать качество и эффективность нашей работы, то надо переходить в официальное поле и зарегистрировали юрлицо.

Что тогда вам дала регистрация?
В то время про волонтерство еще мало кто что знал. Когда мы приходили в какое-то учреждение, сотрудники не очень понимали, кто мы такие. А нам приходилось во многие новые учреждения стучаться – идти вслед за детьми. То есть, мы работали, например, в одном месте, а потом ребенка переводят в другое, мы за ним идем, чтобы не бросать его. И там пытаемся объяснить, кто мы, а сотрудники не понимают, почему они должны вообще куда-то нас пускать. Это был один из аргументов, почему нужно юрлицо. Ну и, конечно же, привлечение пожертвований невозможно без регистрации.
Публичность – единственное оружие против несправедливости
С одной стороны, вы говорите, что юрлицо открывает доступ во многие места, но с другой стороны, как выяснилось, это не спасло. После того как в 2016 году в «Таких делах» вышла публикация о девочке, у которой ребенок в приюте от менингита умер, двери закрылись. Система стала защищаться, боясь, что будет дальше больше?
Система, конечно, стала защищаться, но это не совсем вот так «по щелчку» сработало, было несколько сигналов и до этого: «вот слишком много говоришь, слишком много пишешь, слишком много видишь, слишком много знаешь». Проблемы начались раньше, примерно с 2015 года.
Это как раз в период, когда началось активное реформирование системы сиротских учреждений?
Да, и к этому моменту мы работали уже в 15-ти детдомах и интернатах Самары и области, большой объем данных у нас был, многих детей мы знали, в большое количество ситуаций погружались. Мы вели системную работу: порядка 100 волонтеров регулярно ездили в разные учреждения. И отовсюду стекалось огромное количество историй о несправедливости.
Мне кажется, один из самых сильных внутренних мотивов, которые заставляют меня до сих пор этим заниматься, это как раз неготовность мириться с несправедливостью. И когда мы сталкиваемся с несправедливостью по отношению к детям, которые не могут себя защитить, единственное наше оружие — это публичность.

Когда вы начали привлекать внимание к этой несправедливости?
Один из первых публичных скандалов, за который меня власть невзлюбила много лет назад, еще в 2010 году, был связан с закрытием школы-интерната. Решили сократить расходы, посчитали его нерентабельным. Я не знаю, как вообще рентабельность можно высчитать, когда мы говорим о детском государственном учреждении…
Была проведена прямо какая-то спецоперация: в ночь с четверга на пятницу детям сказали: «Завтра вы уезжаете жить в другое место». Собрали их вещи, покидали в автобусы. Мне дети звонят, я выскакиваю, приезжаю, они уже в автобусе, плачут: «Мы не знаем, куда нас везут, и почему нас везут».
Но простите, да, это детский дом, но для них это дом, их дом. Воспитатели, которых они мамами называли. А вы вдруг сообщаете, что у них теперь другой дом будет, другие воспитатели, другие братья-сестры…
Их развозят в четыре разных учреждения по области, кого-то в Сызрань, кого-то в Тольятти, кого-то в Чапаевск, в незнакомые им города, незнакомые учреждения с абсолютно другими, неизвестными им правилами и устоями. Никто ничего не сделал для того, чтобы детей хоть как-то подготовить к этому переезду, этому переформированию, это было настолько топорно и грубо сделано, что я начал бить в набаты, говорить: «ну что вы делаете?»
«Я не нуждаюсь в дискретном подходе»
Получается, что до какого-то момента терпели ваши публичные выступления, а потом чаша переполнилась?
Я начал пользоваться этим оружием и, естественно, нас стали замечать, перепечатывать, делать перепосты. И тогда, собственно, начались у меня терки с властью, с Минсоцразвития, куда были переданы учреждения от Минобразования. Причем интересно, что я был одним из двигателей этой передачи. Меня приглашали на разные обсуждения, и я топил за то, что Минсоцразвития более логичен для сиротских учреждений, давайте скорее их переведем в это ведомство.
И как только их перевели, в министерстве мне стали говорить: «Слушай, уже определись: ты волонтер, писатель, блогер или ты правозащитник. Ты вот нам скажи, кто ты, чтобы мы понимали, как тебя воспринимать и как с тобой работать».

Я пытался объяснить, что не вижу необходимости дискретного подхода ко мне. Что я могу быть волонтером, а потом приходить домой и писать в блог, а потом идти в суд и там защищать права, почему нет? Ну, в общем, мне сказали, что надо уже что-то выбрать. В министерстве меня встречали с газетами, на которых маркерами были выделены какие-то мои фразы. Меня тыкали в эти фразы и объясняли, как я не прав, и намекали, конечно, что закрыть для меня вход в учреждения ничего не стоит.
И вот эта история с погибшим в приюте ребенком, она, конечно, стала последней каплей, тем самым спусковым крючком, которым я сам себе в голову и выстрелил. Но уже несколько лет прошло, и я думаю, что все равно наверное и сейчас так же выстрелил бы себе в голову. Тогда я просто сказал: «Простите, ребята, ну тут я уже молчать не могу никак».
Ну сейчас-то все уже устаканилось, надеюсь, уже есть доступ?
Нет, доступа нет по-прежнему.

И как же вы теперь? Какие-то контакты с детьми из детских домов остались же?
Сейчас мы не работаем с детьми, которые находятся в учреждениях. Мы работаем с выпускниками детских домов и с семьями в кризисных ситуациях, чтобы предотвратить сиротство и изъятие детей. Ну и помогаем приемным семьям найти детей, а детям, соответственно, приемные семьи. Вчера у меня был прекрасный день: мы нашли четырем братьям приемную семью, это была невероятно сложная задача, потому что четверых мало кто готов взять.
Ну да, таких, как вы, мало, это факт.
Вот вчера мы их забрали из приюта. Отдельная проблема, конечно, была связана с карантином, поскольку все эти учреждения были наглухо закрыты.
Удивительно, как вам удалось вообще прорваться… Скажите, то, что для вас вход в учреждения стал проблематичным, как я понимаю, во многом и сподвигло к принятию решения о том, чтобы забрать четверых (и уже довольно больших) детей? А в этом смысле пошли же вам навстречу? То есть, какие-то нормальные человеческие отношения все-таки сохранились?
Не совсем, не совсем. Конечно, мое решение было напрямую связано с запретом, под который мы попали. Потому что с этими детьми я к тому моменту давно уже много лет общался, поддерживал их, боролся за них, и на самом деле их история был одной из первых публичных историй, о которых я рассказал: о том, что трех братьев и сестру разделили и поселили в разные учреждения. И система тогда впервые жестко отреагировала, и начала со мной бодаться.

Для того чтобы продолжать общаться с этими детьми я ежегодно должен был получать в органах опеки разрешение. Оно называется «гостевая виза», и только по ней меня пускали в детский дом, отпускали их со мной в парк погулять. А после истории с Лолитой (15-летней мамой ребенка, погибшего в приюте. – Прим. ред.), буквально через месяц или через два мне нужно было эту визу продлевать. И вот тогда мне выдали отказ. Это было очень смешно и грустно, потому что несколько лет подряд я ее получал без проблем, а тут получил отказ с формулировкой: «в связи с тем, что отсутствует опыт воспитания детей». Что-то было-было многие годы, и вдруг этого не стало. Кончился, наверное, опыт.
Пришлось судиться, и только через суд я получил это разрешение. Но со всех сторон ко мне приходили неформальные сигналы о том, что сейчас, конечно, ты суд выиграл, но это точно в последний раз, и на большее ты не надейся. Вот тогда я и принял решение, что надо забирать детей совсем, иначе больше я их просто не увижу.
Детдомовское наследство и психотерапия словом
Вам их легко отдали, сразу?
Проблем в процессе забора их из детского дома не было, потому что система тогда приняла для себя решение, что проще отдать четверых и забыть про меня, чем продолжать бороться, продолжать выдавать мне разрешение. Лучше отдать их и забрать у меня вместе с этим билет в детский дом.
Дескать, успокоится уже человек, проблем своих с четырьмя детьми хватит… С каким «наследством» вы их забрали – отдельная тема. В одном из ваших интервью я читала, что были удивительные требования. Вплоть до того, что какие-то там ношеные трусы с бирочками детдомовскими необходимо было вернуть.
Когда мне их отдали, мне выдали список вещей, я до сих пор у себя его храню, могу показать. Там значится: «двое трусов, двое маек, шорты…» и от меня, действительно, их требовали вернуть.
Да, список впечатляет. «Спортивные брюки одна штука, ветровка одна штука…». И еще расческа, зубная щетка, зубная паста.
Вот это все от меня потребовали вернуть. То есть, они говорили, когда я детей забирал: «Мы понимаем, что сейчас ты нам это не можешь отдать, потому что они тогда голые останутся. Но ты когда домой приедешь, их переоденешь, ты, пожалуйста, нам привези».
Зубную щетку в особенности, да?
Я, конечно, стал задавать вопросы: «а что, вы эту зубную щетку еще кому-то выдадите, трусы на кого-то наденете?» Но когда я увидел эти трусы, я перестал задавать вопросы, потому что на трусах было написано: «Илья», а моего сына зовут Антон, а на ветровке была написана фамилия тоже чья-то чужая, и я понял, что и ветровка, и трусы они ношеные не им первым, и с кого-то уже возвращались…

Хоть у вас и забрали билет в детский дом, вы не перестали писать про то, что там происходит. В частности, недавно я у вас в Facebook видела текст о том, как детей, которые «плохо себя ведут», по-прежнему закрывают в «дурке», что эта практика продолжается, она никуда не делась, несмотря на все реформы и красивые слова отчетов. Вы чувствуете отдачу от этой борьбы постоянной, что-то меняется к лучшему?
Не-а, ничего не меняется. Сейчас я это пишу, наверно, даже не в надежде на что-то повлиять. Скорее, это такая психотерапия словом для самого себя.
«Махины нет, есть человеческий фактор»
Не так давно вы комментировали ситуацию, когда представители органов опеки и полиции насильно забрали у родителей пятерых детей. Как вы думаете, сколько людей должны про это кричать, чтобы эту махину сдвинуть с места, чтобы она сломалась наконец-то.
Я выскажу, наверное, не очень популярную идею: а нет никакой махины. У меня опыт работы в 15 учреждениях и это 15 разных абсолютно не похожих друг на друга систем, закрытых, но очень разных. В каждом из них у нас был разный абсолютно подход и к работе с персоналом, и с администрацией, и с детьми. Попытаться их как-то сгруппировать в единую систему не получается, все, к сожалению, зависит от роли личности в истории. В этой системе особенно наглядно: от директора зависит все — как воспитываются дети, какая у них степень свободы, какая степень уважения к детям со стороны персонала.
И когда мы говорим об опеке, там тоже нет никакой махины, есть люди конкретные. И многие, к сожалению, не образованы.
У нас нет до сих пор профильного образования для работников служб опеки, они не знают, например, что такое «материнская депривация».
Я езжу иногда по разным городам и читаю лекции. И вот как-то собралась аудитория психологов детских домов и опеки. После того, как я им рассказал про материнскую депривацию, про ее последствия, про выученную беспомощность, они на меня смотрели вот такими глазами, подбегали потом с флешками: «скиньте нам, пожалуйста, презентацию». Но вообще-то это они должны были изучать еще в вузе, а они, 20 лет проработав психологами в детском доме, впервые у меня на лекции об этом узнали.

Так что проблема в профессионализации государственных служб, которые работают, в том числе с детьми. К сожалению, что в нашей стране это касается абсолютно любой сферы, необходима профессионализация служб, которые работают с пожилыми людьми, бездомными животными… Это системная проблема. А вот никакой махины опеки нет. Есть люди на местах, которые могут быть глупыми, которые могут быть не образованными, которые могут быть в плохих отношениях с конкретно этой семьей.
Есть такие люди в опеке, с которыми получается сотрудничать?
К счастью, да. Важно, что сотрудники опеки на местах понимают, что мы можем быть друг другу полезны. Они к нам обращаются и говорят: «Вот у нас есть семья, мы бы вообще должны были забрать детей, потому что они спят на полу. Может, вы поможете, найдете кровать и привезете продукты?» Я говорю: «Ну конечно, найдем, привезем». «Мы тогда им даем неделю отсрочки, за неделю справитесь?» «Справимся». И вот буквально сегодня мы привезли большую кровать, пока договорились с опекой, что на одной кровати двое детей будут спать вместе, но не на полу, уже хорошо.
Много семей таких в вашем ведомстве сейчас?
35-40 в активной работе.
Карантин и самоизоляция
Насколько их ситуация обострилась в карантин?
Количество обращений существенно выросло. Если раньше это было плюс две-три новые семьи в месяц, то сейчас плюс четыре-пять семей в неделю. Большинство наших подопечных семей маргинальные, у которых, как правило, нет стабильной работы. Они перебивались случайными заработками и, конечно, в первую очередь пострадали. Случайных заработков не стало никаких, а дети никуда не делись, поэтому нам пришлось увеличить и объем, и частоту выдачи гуманитарных наборов с продуктами, бытовой химией, средствами гигиены.

Я у вас в Facebook читала про женщину, которая работала аниматором. Во время карантина, понятное дело, такой работы не стало. А у нее ребенок и собака, и чем их кормить? И что она буквально по стенке сползла от переживаний и неловкости, когда вы ей продукты привезли… Бедность – основная проблема кризисных семей?
Да. На второе место я бы, наверно, поставил насилие. Вот сегодня, например, мы ездили к девушке с тремя детьми, которая находится фактически в ситуации домашнего насилия. Ее муж накануне приезжал к ней ночью, бил ее, тушил об нее окурки, требовал выметаться. Его ребенок только младший, еще двое детей старших от другого мужчины. И мы пытались решить вопрос, сегодня я полдня только этим занимался… Что, собственно, можно сделать: она живет в его квартире, с формальной точки зрения, он может попросить ее уйти, они не зарегистрированы как муж и жена, она не может требовать там права проживания, так как не прописана. Только у одного из трех детей есть право на жилье, и все. И вот мы обсуждали варианты решения, накидывали чек-лист, что можно сделать, планировали работу на ближайшие две недели…
«Наша задача — научить жить самостоятельно»
Вы говорили, что работаете с выпускниками детдомов. Что вы для них делаете? К вам любой человек может обратиться за помощью?
Постинтернатное сопровождение — самое большое и сложное направление сейчас. Мы сделали Центр взросления — это частный дом, с участком, постройками. У нас есть столярная мастерская и швейная мастерские, там жизнь кипит каждый день. В первую очередь, конечно, приходят те, с кем мы работали непосредственно в учреждениях, кто нас уже знал.
Информация распространяется, в основном, по сарафанному радио, оно у сирот очень хорошо работает. И стали уже приходить ребята из других выпусков, более поздних, и из других учреждений.

Сколько обычно человек занимается в центре, какая проходимость?
Это очень сложно посчитать, потому что один из главных принципов — нет никаких обязательных посещений, мы не отмечаем: пришел-прогулял. Центр открыт всегда, и туда каждый может прийти тогда, когда ему нужно. Кто-то приходит один раз с какой-то конкретной проблемой, мы ее решаем, кто-то обращается вообще онлайн и не приходит ни разу, при этом мы все равно продолжаем помогать, списываемся, даем консультации по жилищным вопросам (с ними обращаются чаще всего), юридическим.
Кто-то приходит каждый день, потому что просто не знает, как организовать свою жизнь иначе, как организовать свой досуг, где найти еще каких-нибудь друзей, кроме тех, что у него есть с детского дома, где просто поесть.
Зимой обычно поток увеличивается, потому что приходят еще и погреться, летом чаще приходят мамы с детьми, потому что детям можно побегать на участке, покопаться на грядках, мамам – отдохнуть. В общем, по-разному. Бывает в один день, например 20 человек, в другой — пять, в третий — 30. Никакой постоянной посещаемости высчитать невозможно, но в среднем это человек 10-15 в день.
В мастерских профессиональная подготовка идет?
Ну, профессиональной подготовкой это сложно назвать, мы же никаких дипломов по профессии не выдаем. Изначально идея была в том, чтобы показать, как, в принципе, можно зарабатывать на жизнь и как можно обставить, в том числе, свою полученную от государства квартиру. Начинали мы с кулинарных мастер классов, с того, что учили их готовить: вот плита, вот сковородка, давайте что-нибудь пожарим. Потом появилась столярная мастерская: давайте научимся делать самим себе табуретки. Потом уже появилась швейная мастерская: а давайте теперь еще и постельное белье себе сошьем.

И так постепенно разрастались, а теперь уже дошли до идеи сопровождаемого трудоустройства в этих же мастерских. Для того чтобы они получили навык трудовых отношений, потому что огромная проблема с мотивацией, умением найти себе работу, а главное — задержаться там на хоть сколько-нибудь долго. Они не умеют выстраивать отношения с коллегами, выстраивать иерархические отношения с начальником, нет никакого понятия субординации.
И поэтому мы решили: а давайте их тут учить. Тут будет человек – «начальник», тут же мы с ними заключим договор, будем давать определенный объем работы, чтобы обеспечить других ребят теми же табуретками. Будет график, который они должны будут соблюдать, посмотрим, как у них получится хотя бы на нашей, знакомой им, близкой и понятной территории.
Сейчас мы думаем подать заявку на какой-нибудь грант на эту идею. Здесь, конечно, очень большая доля работы психолога и методиста. Потому что, сколько мы ни пытались их устраивать на работу, не задерживаются. То проспят, то напьются, то поругаются с коллегами или начальством, то просто говорят: «Слушай, я тут походил три дня, мне что-то ничё не заплатили». Мы говорим, так через месяц заплатят. «Как, целый месяц? Ты чё вообще? Нее, я тогда лучше дома полежу».
Если готовить, стирать и т.п. научить еще как-то можно, то трудоустройство — это уже высший пилотаж, конечно же… Сколько уже человек получили помощь от центра?
За время существования центра, я думаю, человек 200 прошло.
Какие-нибудь хорошие истории есть, кому действительно удалось нормально зацепиться на работе?
Есть, конечно, хорошие истории, но их очень-очень мало. Есть даже истории получения высшего образования, для нас это, конечно, просто самый-самый верх, край олимпа, из этих 200, может, три человека максимум получили высшее образование, куда-то устроились, если и не по специальности, то хотя бы где-то около.
Тут все очень не просто. Я уже говорил про материнскую депривацию. Она глубинные процессы затрагивает, даже процессы построения нейронных связей головного мозга. Из-за того, что не были в детстве удовлетворены базовые потребности: в безопасности, в эмоциональном контакте с матерью, мы не можем пойти куда-то дальше. К сожалению, ученые нам говорят, что последствия материнской депривации можно частично компенсировать, но невозможно преодолеть полностью. Это и становится причиной отсутствия, например, познавательного рефлекса, а заниматься образованием без познавательного рефлекса нельзя.
Понимая все это, мы, конечно же, не пытаемся прыгнуть выше головы, главная наша задача — это научить их жить самостоятельно. При этом представление о нормальном качестве жизни может быть очень разное. Для кого-то это обязательно: машина, дом, большая семья и регулярный заработок. Мы же качество жизни видим несколько иначе. Нам главное, чтобы им было, что поесть и где переночевать. Но даже эту низкую планку потребностей нам далеко не со всеми удается достичь.

О фонде и о жизни
В фонде много сотрудников?
Когда мы только начинали работу, я был единственным трудоустроенным сотрудником, на 0,1 ставки, потому что налоговая, когда мы пытались вообще без сотрудников организовать нашу работу нам объяснила, что директор обязательно должен быть. Когда мы пытались организовать работу директора бесплатно, нам объяснили, что у директора должна быть обязательно зарплата. Поэтому мы устроили меня на 0,1 ставки, 2 тысячи рублей в месяц я получал и долгое время оставался единственным сотрудником. На протяжении лет пяти, наверное, больше никого не было. А где-то с 2014 года организация стала профессионализироваться, появились наемные сотрудники, кто-то на полный рабочий день, кто-то на полставки, кто-то приходящий.
В центре у нас мастерские и, конечно, там должен быть постоянный сотрудник, на полный рабочий день. Он у нас есть, туда же приходит психолог, два раза в неделю на полставки, по договорам ГПХ работают мастера столярной и швейной мастерской, ну и так набирается человек семь.
Фонд, в основном, с пожертвований финансируется или есть гранты?
И то, и другое, но непосредственно Центр взросления у нас работает на президентский грант.
А что бы вы хотели дальше делать? Еще есть что-то в планах, в мечтах, куда развиваться?
Слушайте, я продолжаю мечтать о том, что когда-нибудь мы будем действовать с властью заодно. Потому что я уверен, что мы не должны играть друг против друга, забивать друг другу в ворота, мы должны охранять одни наши общие ворота — семья, дети как раз там находятся, между нами и сеткой, а не забивать друг другу голы. Это то, о чем я продолжаю мечтать по ночам. Ну и продолжаю работать, искать единомышленников, выступать в СМИ, подавать заявки на гранты, потому что это помогает выйти на более высокий уровень общения с властью.

Конечно, это же дает такой лейбл: «у меня президентский грант есть, меня не надо пугаться, я не страшный».
Да, благодаря президентским грантам – у нас такой уже третий – что-то происходит. После второго, например, нас приглашал губернатор общаться, давал Минсоцразвития указание начать сотрудничать с «Домиком детства». Они, правда, забили, не сделали ничего в этом направлении, но было приятно.
В самом начале нашего разговора вы сказали, что благотворительность для вас — это не совсем профессия, профессия – это IT. Но эта благотворительная «добавка», она же огромное количество вашей жизни занимает. Что новое вы благодаря этому приобрели, научились, может быть, чему-то, что-то поняли по-другому?
Ну, научился быть родителем (смеется). Хотя дети со мной, может быть, и поспорят. Но я считаю, что наличие возможности у них со мной спорить — это тоже плюс, значит, что-то я умею все-таки как родитель.

«НКО-профи» — проект Агентства социальной информации и Благотворительного фонда В. Потанина. Проект реализуется при поддержке Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Информационные партнеры — журнал «Русский репортер», платформа Les.Media, «Новая газета», портал «Афиша Daily», порталы «Вакансии для хороших людей» (группы Facebook и «ВКонтакте»), Союз издателей ГИПП.
Подписывайтесь на телеграм-канал АСИ.