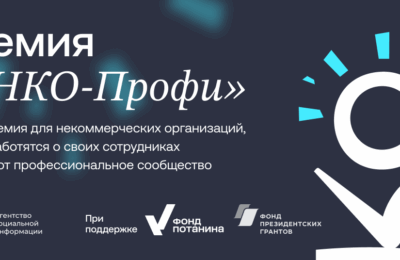Интервью с директором и художественным руководителем Упсала-Цирка – часть проекта Агентства социальной информации и Благотворительного фонда Владимира Потанина. «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе.
Упсала-Цирк появился в нулевых. Что тогда, 20 лет назад, заставило вас поверить в эту идею?
Я думаю, для меня это была история про идею, которая не поддавалась пониманию. Театр – это вот такая серьезная штука, которая на тот момент меня не очень устраивала с точки зрения концепции, понимания и моей роли. А цирк я никак не могла понять, я не знала, что это такое, это был космический корабль. И я не была травмирована тем цирком, который все не любят или боятся.
Не были на представлениях?
Я была на представлениях, но не было такого: ужас-ужас, боюсь клоунов. Но при этом я не была влюблена в блестящих акробатов. То есть тогда у меня была возможность увидеть свой цирк и создать внутри очень быстро какую-то свою картинку, наверное, отталкиваясь от тех ребят, которых мы видели на улицах. Они вдохновили меня на это.
Поэтому произошла любовь с первого взгляда – меня и Упсала-Цирка. Это какой-то воздушный замок, который мы сами себе придумали и в нем находимся.

Вы как-то говорили в одном интервью, что встретили за несколько дней до этого «уличных» подростков на Невском проспекте…
Да не за несколько, а в тот же день, когда мы встретились с Астрид (Астрид Шорн — немецкая студентка, соосновательница Упсала-Цирка. — Прим. АСИ).
И подумали, что было бы неплохо поставить с ними спектакль…
Нет, я подумала, что буду ставить с ними спектакль. Это не было «я бы подумала…», мне очень хотелось что-то делать. Я очень хотела создавать практичные вещи. С первого же дня, с первой минуты стали с ними что-то делать.
Упсала-Цирк — «центр нового цирка»; место, где объединяют культурные и образовательные инициативы. Упсала-Цирк ставит спектакли и уличные представления с детьми из групп социального риска — из неблагополучных, приемных семей и семей с опытом миграции. В Упсала-Цирке есть и профессиональная труппа и инклюзивное пространство.
Вместе с ребятами в цирке хотят «направлять хулиганскую энергию в русло циркового искусства».
А расскажите подробнее?
Мы просто встретились с Астрид у станции метро «Гостиный двор», увидели ребят, Астрид достала какие-то штуки для жонглирования. Мы тут же пошли с ними в какой-то убогий подростковый клуб и сразу начали делать какие-то штуки.
Не было долгих рассуждений над концепцией, над тем, что мы делаем и как мы будем жить, финансироваться, какая у нас стратегия, методология…
Не было теории, было желание что-то сделать. Мне кажется, на тот момент было больше эмоций, чем мозгов, и это стало спасительным действием, потому что если бы мы начали думать, то утонули бы в размышлениях, сами себя бы ограничили.

И дети легко согласились? Просто в моем понимании хулиган — уличный драчун, которому никто и ничто не нужно, тем более цирк все-таки веселая вещь.
Ну слушайте, мы же не были с Астрид тетками усатыми в милицейской форме, которые приходили со стразами в ресницах. Двадцать лет назад мы сами не очень отличались от них, были на расслабоне, хохотали, шутили, дурачились. У нас не было этих котурнов взрослых (котурн — повседневная и артистическая римская обувь на возвышении, знак обеспеченного сословия или принадлежности к божествам. — Прим. АСИ), и я надеюсь, до сих пор они не очень высокие.
Поэтому и диалог получился; у нас не было желания типа научить бедных убогих детей жизни, было желание что-то кайфовое сделать, уважая их опыт. Вот и всё. И в этом смысле, конечно, каждый из нас достаточно доверчив к жизни, если мы по-человечески друг с другом общаемся.
Я знаю, что вы в детстве и юности любили сочинять истории, например про отца, служившего в немецкой армии. Как вы еще хулиганили, может быть, двадцать лет назад или до сих пор?
Я не знаю, я, наверное… Эй ты, трио из Бельвилля!* На финальчик подъехал! (Смеется, обращаясь к артисту, приехавшему на репетицию на велосипеде)
«Трио из Бельвилля» — европейский полнометражный мультфильм 2003 года о велосипедах и велоспорте.
Как я хулиганю? Не знаю, я ничего не делаю такого…Например, я не люблю аттракционы, вот эти луна-парки. Не люблю карусели, где нужно купить билет и за страх платить деньги. Я не вижу в этом смысл, потому что мне кажется, что у меня аттракционов или какого-то такого драйва, преодоления, риска, который на самом деле нам необходим, хватает здесь, в этом пространстве.
Ведь здесь хулиганство…Мы сейчас пытаемся отойти от этого клише, в которое сами себя же посадили, и хотим его разрушить.
Когда мы десять лет назад стали обращаться к слову «хулиган», оно было очень свежее и немножко «давало в зубы». Люди говорили: «Мы не хулиганы, что это за хулиганский проект!» А сейчас это уже стало маркетинговым ходом, и я очень часто вижу в рекламе и в выражениях что-то про хулиганские проекты, хулиганское высказывание. И это уже получается какая-то «candy», и хочется избавиться от этой хулиганской тети, которая в 45 лет э-э-эх хулиганит, старушка.
Я не знаю, мы занимаемся творчеством, можно ли назвать это хулиганством? Можно. Можно ли назвать провокацией? Тоже да. Можно ли выходом из какой-то рутины бытовой? Да конечно, можно, этим мы и занимаемся. Потому что погружение в бытовую рутину – это путь в никуда.
То, что сейчас в нашей стране происходит, не есть хорошо. И мы пытаемся быть открытыми для жизни. Мы не хотим отмораживаться, мы не хотим делать вид, что нас это не касается или что мы не видим, что происходит с нашей страной, с нашими людьми, нашими школами, нашими подростками.
Не хотим просто заниматься высосанным из пальца непонятным творчеством или крутить сальто, подбрасывая какие-то глупые мячики.
В этом смысле я бы больше говорила про то, что мы сейчас хотим соединить себя с жизнью, а не заниматься хулиганством ради романтического хулиганства.
Мы выросли из этих коротеньких штанишек, кепочек и старых бравых хулиганов. Это я о себе говорю. Это всё весело и прикольно, но хватит, поиграли и дальше идем.
А что цирк может от жизни взять?
Как-то недавно в одном интервью мы сказали – и нам самим это понравилось – что Упсала-Цирк — это как будто Боженька плюнул цветным плевком, и такой красивый шатер появился.
Цирк точно может дать что-то этому городу и этой стране, дать что-то этому миру. Мы можем начать разговаривать со зрителями, которые к нам приходят, но опять-таки без котурна. Часто я слышу по отзывам, что они чувствуют себя как дома. А что такое дом? Когда мы начинаем об этом размышлять, то понимаем, что это возвращение в хорошее, уютное детство без соплей.
Вот сейчас ребята репетируют спектакль «Приехали». Это такой уличный перфоманс, в которым мы иронизируем над тем, куда мы приехали и чего мы так долго ждали, кто к нам приехал и зачем нам нужны сильные лидеры, которые нас ведут куда-то вперед. Такая странная клоунада, в какой-то момент становящаяся несмешной.
Как в вашей жизни случился факультет режиссуры?
Он случился совершенно волшебным образом, потому что в моей жизни я встретила Марину Васильевну Кокорину, которая рассказала, что есть еще какая-то прекрасная жизнь. И когда она мне сказала «Давай будем поступать в институт», я, конечно, подумала, что она с ума сошла. Но… Но это, наверное, то, что меня спасло. И это важно.
С нами же всё время в жизни происходят какие-то случайные неслучайности. Мы сейчас в команде обсуждаем такую важную вещь: если нам кажется, то нам не кажется. Очень часто в жизни, когда мы видим что-то вязкое и противное, то думаем: блин, нам кажется это. Но нам ничего не кажется. Это прям какашка.
Мы должны в голове научиться отдавать себе отчет и доверять себе и своему чувству. Если нам кажется, что это лажа, — это она. В этом смысле встреча с Мариной Васильевной – случай, когда мне показалось, что это важно, и это стало моей основой. Запутанно сказала, но как есть…

Марина Васильевна – это женщина, которая вела театральный кружок в вашей школе?
Да. В моем детстве.
А вам нравилось учиться в университете?
И да, и нет. Все зависело от педагогов, от инфекции, которая присутствует в том или ином человеке. Если человек был передатчиком знаний, если его перло, то конечно нравилось. Я человек, который влюбляется, и поэтому я воспринимаю мир через проводников.
Условно [говоря], английский язык мне интересно воспринимать через спикеров, заряженных в TEDx. Это касается многих вещей. Если мы инфицированы, то можем дальше эту инфекцию распространить, если не инфицированы, не влюблены и холодны — ну… нет. Тогда путь становится сложнее, ты будто находишься в колбе, которую трудно проломить.
Поэтому неоднозначно, любила ли я учиться. В каких-то местах да, в каких-то мне было скучно.
А сразу после университета вы представляли себя в профессии режиссера?
Не-а. К сожалению…К счастью нет, я не представляла себя вот таким режиссером-режиссером, который ставит какие-то театральные постановки. И театр со словами мне был скучен. А другого театра я не понимала, физически я себя там тоже не видела, совсем ни в каком театре.

А вот Упсала-Цирк – та форма, которая мне подходит. И это ведь не пространство одного режиссера. На наших афишах никогда не будет стоять «спектакль, режиссер Лариса Афанасьева» большими буквами. Это все-таки работа команды, группы людей, группировки Упсала-Цирка.
Потом была театральная академия в Питере…
Да, но в ней совсем скучно было…
А почему в Питере, а не в Москве или в Новосибирске? (Лариса Афанасьева родом из Улан-Удэ. — Прим. АСИ)
Слушайте, когда я приехала в Питер, еще живя в Сибири, я влюбилась в этот город. Потому что Питер – это вот прямо та инфекция. Таких городов в мире мало, которые сами по себе заряжены. Я влюбилась, и ну какая Москва, извините?
Вот вы здесь больше 20 лет работаете, я знаю, что был момент, когда цирк хотели закрывать. Поэтому вопрос: знакомо ли вам выгорание?
Выгорание… Такое опять сложное… Я правда верю в выгорание, ты можешь устать. В семье, в паре выгорание происходит тогда, когда заканчивается любовь. И нужно вещи называть своими именами, тогда нужно вставать, брать чемодан, низко кланяться в пол, говорить: «Спасибо за всю хурму», — и уходить. Но здесь история не про выгорание, а про то, что отношения закончены.
А в НКО почему-то по-другому. Ну, во-первых, НКО – не все – несут флаг такого саможертвоприношения, и вот на мой взгляд, самовыгорание – это какая-то глубинная отмаза. Самовыгорание – это история про личную ответственность.
Если ты устал, давай называть это усталостью, и тогда мы сможем об этом позаботиться, дать тебе время, а не говорить, что твоя организация или проблемы людей тебя истощили и высосали.
Мне так кажется. Это мое мнение, это то, с чем я живу и работаю, но у каждого человека может быть по-разному.
Тогда переформулируем вопрос. Уставали ли вы в отношениях с Упсала-Цирком?
Вот прямо уставать, чтобы вставать и уходить и «фу-бе», – нет. Вот чтобы я приходила и думала: «Глаза бы мои не глядели», — нет, такого не происходило.

Для меня это важное состояние, я очень прислушиваюсь к себе, когда прихожу в это пространство. И до сих пор испытываю радость, гордость, трепет, подпрыгивание и так далее. Могу ли я физически устать? Могу, конечно. Хочу ли я когда-то уехать в отпуск? Точно да. И это происходит всё больше и чаще, и это нормально.
В какой-то момент мне, конечно, нужно будет выстроить какую-то историю выхода из цирка, спокойного и нетравматичного, без drama queen и заламывания рук.
С выгоранием поняли. А знаком ли вам синдром самозванца?
А в НКО он существует? Мне кажется, он в театре, у творческих людей.
Я думаю, это нормально, когда человек начинает что-то делать и сомневается. Любое делание и созидание вызывает вопросы к себе, к миру и так далее.
Да, наверное, знаком, есть неуверенность, с каждым проектом есть сомнение, сделаем ли мы это или не сделаем, получится или нет. И каждый раз это вызов, нет мягкого уютного стула, где мы такие: конечно, конечно, всё будет классно. Всё время какая-то табуреточка, на которой ты сидишь с потными ладошками в предвкушении.
А как боретесь?
Да никак! Ну слушайте, это нормально.
Знаете, если артисты не волнуются перед выходом на сцену, если у них нет внутреннего мандража, получится или не получится, — это всё… Это такой холодный нос совсем. Это такое ожирение, заплывание, когда ты весь ровненький.
Они же не Росгвардия, и я не Росгвардия, чтобы мы были уверены в своих действиях на сто процентов. Те ребята [Росгвардия] без страха и упрека существуют, у них нет комплексов и синдромов самозванца, они четко понимают, что делают, отдают себе отчет во всем. Наша отрасль, наверное, немножко про другое.
Вы считаете Упсала-Цирк частью НКО-сектора?
Нет.
Почему?
Ну потому что Упсала-Цирк — это другое явление. Я не считаю Упсала-Цирк ни частью НКО-сектора, ни частью культурного пространства, театра или еще чего-нибудь. У него своя ниша, и это скорее про образование, про культуру.
Мне не очень хочется попадать в этот НКО-сектор, потому что когда к нам приходят партнеры или спонсоры и мы начинаем говорить о KPI, то часто задают вопрос, например, о количестве детей. А для нас немножко другие показатели важны, не количество детей или успеваемость в школе. Или спрашивают, сколько детей после нашего цирка поступили в высшие учебные заведения.
Я не считаю успехом, когда человек поступает в унылый вуз, а не отправляется с рюкзаком в путешествие по миру. Ну что мы сравниваем?
Социализацию, которую мы имеем в виду для НКО-сектора, мы не ставим [целью] как некий внутренний результат. У нас для себя и для ребят свое определение – быть счастливым и свободным. И вот в НКО-секторе сложно эту долгосрочную перспективу про счастье и свободу упаковать.

Есть люди, которые действительно понимают, о чем мы, а для некоторых это прямо буэ, непонятная структура. К счастью, современное образование больше сейчас говорит о том, как мы можем быть в этом мире счастливы и свободны. И ты можешь найти это счастье и свободу через математику, живопись или через цирк.
Наверное, мы – это портал в понимание жизни. Хотя нам говорят: но жизнь же не такая! А какая она? Серая, унылая и убогая? Нет. Жизнь – это ведь bubble (пузырь. — Прим. АСИ), в который мы можем попасть и сами сделать ее серой, с KPI, троечками в коррекционной школе и последующей работой в Росгвардии. Простите, я пристала к ним сегодня почему-то…
Либо мы можем отказываться от этих социальных рамок, иметь право выбора, право послать, право сказать: «Нет, я хочу по-другому».
Нужно быть честными в этом смысле. Фонд Потанина помогает нам и поддерживает проекты, но мы выстраиваем с ними диалог. Можно писать заявки, подчиняясь структуре фонда, а можно честно вступать в диалог и говорить про партнерства. Если мы разделяем эти ценности, мы можем двигаться куда-то дальше.
И тем не менее цирк начался как некоммерческий проект, а не как стартап. Почему?
Потому что это был вызов времени. Потому что в двухтысячном году…В каком году вы родились?
В 1998-м.
Вот, вам было два годика, а в 2000 году уличные дети были в Катькином саду (сквер перед Александринским театром с памятником Екатерине Великой. — Прим. АСИ), где был рынок детской проституции, ребята у точки героиновой, где восьмилетний ребенок мог купить герыч… Конечно, это началось как социальная история, потому что вся страна была в этом состоянии болезни.
Сейчас ситуация изменилась, и я считаю, что если тогда группа социального риска была выделена четкими границами, то сейчас [это] вся страна. Журналисты, художники, режиссеры, писатели, поэты, люди, которые вообще по-другому думают.

Изменилось ли что-то после 2008 года, когда цирк зарегистрировался как АНО?
Ну даже не в этом дело, это была просто формальность, это был рост организации, кризис и выход из кризиса. Появилось просто другое юридическое название, чтобы решить конфликтные ситуации.
Если в 2000 году после выборов нашего президента я думала, что мне это кажется и сейчас это все развидится, то в 2007 и 2008 годах стало понятно, что не развидится. И начался отсчет времени назад. Для меня это было время про это; а для организации — история про новый этап после кризиса: мы переболели и вышли на другую точку.
Что вы имеете в виду?
Слушайте, в 2000 году, несмотря на все экономическое и социальное безумие, я просто думала, что мы сейчас взлетим с точки зрения искусства, гуманизма, образования, создания нового поколения свободы.
У меня была абсолютная иллюзия, что все понесется вперед и нужно что-то делать для своей страны вместе с детьми, подростками, людьми. Я до сих пор считаю, что это нужно делать, но, к сожалению, тогда [в 2008 году] стало ясно, что стране это не поможет.
Слишком много времени уходит не на усиление, а на поддержание штанов. И не на то, чтобы в каждом регионе появился вот такой цирк, условно, или вдруг образовательная система поменялась.
Шансы были, но они все самоуничтожились, и поэтому жаль, жаль потерянного времени для нашей страны. Мне очень искренне жаль нашу страну, до слез.
Давайте вернемся к цирку. Расскажите про вашу команду, кто у вас работает и откуда приходят эти люди?
Команда – ураган! Вот посмотрите на этих двух прекрасных молодых людей. Они занимаются саунд-дизайном, Даня вот делает проекты с Александринским театром, Тони пишет какую-то потрясающую музыку, делает эксперименты с видео. Это люди, которые приходят из профессиональной сферы и понимают ту энергию и свободу, которые существуют здесь, в Упсала-цирке. Для них это место притяжения, и для меня это очень ценно.
Команда офиса очень классная. Мы пытаемся сейчас построить горизонтальную модель принятия решений, где у каждого человека есть своя возможность создавать и реализовывать проекты, нести ответственность за продвижение и команду.
У нас есть инклюзивное пространство, пространство цирка и профессиональная труппа. У каждого направления есть свой координатор, свои команды, стратегии развития. В цирке работают около 40 человек.
Маркетинг и фандрайзинг мы совместили, и они формируют мысль не из того, что есть какая-то социальная проблема, что нужны деньги на что-то там и мы сейчас пойдем просить. Мы формируем обращение к миру, рассказываем, кто мы, и дальше находим партнеров.
А как, если не секрет, у вас строится фандрайзинг?
Вообще не секрет! Я вот прямо могу подвести вас к нашему прекрасному фандрайзеру Диане, которая вам в цифрах все расскажет.
Часть нашего фандрайзинга – фонды, наши важные партнеры, часть – частные доноры, и мы сейчас активно с ними работаем. Часть, около 30%, мы зарабатываем самостоятельно, у нас есть «Упсала-ивент», это коммерческое направление, мы проводим для компаний тимбилдинги.
Сейчас мы запускаем интернет-магазин с нашим мерчем, и понятно, что на всё нужны время и профессионалы. Посмотрим, выстрелит это или нет.
А волонтеры у вас бывают?
Бывают, у нас долгое время были волонтеры из Европы, совершенно классные. Если у нас большие мероприятия, мы тоже приглашаем волонтеров.
Но в рабочих и педагогических процессах — нет, мы зовем тьюторов, потому что это должна быть понятная работа, с целями, задачами и обучением. Сейчас мы внутри цирка начали образовательный проект, и весь тренерский состав учится: на практике мы говорим о целях и стратегии, а потом они тут же применяют это на занятиях. Педагог или тренер – это человек, который все время что-то от жизни берет, потом выводит, дальше проверяет, работает ли это.

Команда очень классная, и она сейчас выстраивается. А это сложно, попасть в команду Упсала-Цирка очень сложно. Как один человек, который был в команде, сказал: как будто ты в тоненькое игольное ушко пытаешься попасть. И это правда так.
Часто люди приходят опять с тем представлением об НКО, [по которому] мы помогаем и спасаем детей. Эта штука часто не срабатывает в цирке, потому что ДНК другая – мы здесь проекты начинаем, делаем классные спектакли, учимся жить и создавать, но не спасать друг друга. Спасение – оно потом, когда-то.
Получается, вы отфутболиваете тех кандидатов, которые считают, что здесь нужно кому-то помогать?
Отфутболиваем, да. Когда человек «рожден, чтобы спасать другого» и он сейчас принесет себя в жертву и всех спасет, мы отфутболиваем. Жестко.
Есть еще другие люди, которые приходят работать в НКО. За счет добрых дел они реализуют себя, чувствуют себя хорошо. Такие тоже отфутболиваются.
Это сложно сразу прочитать, но через какое-то время прочитывается. Люди, которые себя приносят в жертву ради детишек, — тоже нет.
Если вы не относитесь к подросткам так, будто им надо помочь, они, наверное, тоже это чувствуют и не считают себя какими-то бедными-несчастными, которым нужно помогать?
Нет, знаете, это же не значит, что мы совсем отмораживаемся эмоционально и говорим: не, чувак, это твои проблемы. Это история про диалог, но самое важное, зачем мы здесь, это чтобы делать классные спектакли, искусство и творчество. И мы считаем, что это может менять нас и мир, потому что сам по себе инструмент творчества — очень крутая вещь.
Понятно, что если что-то у кого-то случится, мы будем рядом и поможем: если там, условно, у какого-то ребенка маму будут лишать родительских прав, потому что не постираны вещи и нет денег купить стиральную машину, мы купим эту стиральную машину. Но это не будет являться в нашем отчете, финансовом и социальном, основным KPI.
Вместо этого мы напишем, например, что этот ребенок посетил Эдинбургский фестиваль и побывал в музее на выставке Брейгеля. Что-то вот такое, потому что это превращает нас в людей, а не в подопечных социальной организации.

Страшное вот прямо слово – наши подопечные. Нет, это неправильное и некорректное слово. Это мои коллеги, артисты. Это творческие, классные люди, но не подопечные.
Как вы относитесь к инклюзии?
Я хорошо отношусь к инклюзии, если она не становится опять «трендли» вещью, когда у нас учащается сердцебиение и мы берем флаг, где написано «инклюзия», начинаем хмурить бровки и говорить, как это важно для нас.
Мне кажется, этот разговор уже закончился и все поняли, что это важно. Просто нужно расслабить булки и делать проекты, не наделяя это такой многозначительностью. Не уделять этому такое внимание, мол, вот, посмотрите, в нашем проекте разные люди. Ну камон, мы в двадцать первом веке живем.
Мне нравится, что на нашей площадке, в моем мире есть разные люди, мне классно и безопасно. Инклюзия – замечательная вещь, просто она не должна быть каким-то пафосом, ведь это норма. Не можем общаться с такими людьми, не умеем? Ну давайте поучимся.
К нам вот приезжал прекрасный специалист из Бразилии, потому что у нас есть ребята, которые не умеют разговаривать, и мы не знали, как с ними выстроить диалог. Ведь ты можешь сказать: я не понимаю тебя, ты не понимаешь меня, — и дальше отморозиться. Но тетя чудесная приехала и сказала: всё очень просто, есть коммуникационные карточки, вы можете сами сделать их в невероятном количестве и общаться.
Но нельзя из этого делать пафосную, надрывную чертовщину. Я вот недавно слышала в Clubhouse, как какие-то чуваки из инклюзивного проекта говорили: вот, мы такие крутые, мы с этими божественными людьми (почему-то еще их божественными людьми считают) делаем проекты, и нам никто денег не дает, а нам нужно, чтобы кто-то пришел и решил вопрос, ведь мы тоже такие божественные и не понимаем менеджмента. Вот. От этого хочется отойти.
Но опять-таки чуваки имеют на это право, хочется им через боль и грусть это транслировать – окей, но я там не хочу находиться. Инклюзия – да, боль и грусть – нет.
Какого будущего вы хотите для Упсала-цирка?
Не знаю, это сложное рассуждение, оно не имеет отношения ни к чему. Это очень сложно. Если бы мы с вами сейчас жили в Швеции или Финляндии, мы бы сейчас сидели и говорили про будущее.
В Руанде, в России, в Афганистане говорить про будущее очень сложно. Ну как бы можно, но зачем? Сейчас [важно] чтобы у людей в городе появилось понимание, что цирк – это важное и нужное место с точки зрения нашей внутренней безопасности. Это про мою и города стабильность.
Сейчас в России есть только один выход – если люди не будут друг от друга отмораживаться. Мы все поняли, что на государство мы не можем надеяться, европейские фонды рано или поздно уйдут из страны, бизнес наш тоже в не очень завидном положении. Только люди способны помогать друг другу существовать. То есть те фонды, которым мы можем перечислять деньги и верить.
И какое-то время вот так мы сможем просуществовать. А мы как Упсала-Цирк не хотим быть зависимыми от государства в данный момент.
Может быть, когда-то что-то изменится, и было бы классно, если бы я проснулась в какой-то момент и сказала: как круто, если бы нас сейчас поддерживало государство! Вот мы бы сели за один стол и начали бы по-серьезному говорить о проектах: а давай вот это, а давай вот так, государство! Давай, круто!
Но это всё если бы, абы, кабы, когда-нибудь.

А какой вы себя видите в будущем?
Мне бы не хотелось быть старушкой без зубов на пенсии. Я точно не хочу в старости заниматься Упсала-Цирком и надеюсь, со мной такого безумия не произойдет, и я не буду своими старушечьими пальчонками цепляться и говорить: «Это я создала!» (смеется)
Мне бы хотелось заниматься чем-то другим, я не знаю, чем угодно. Путешествовать, радоваться жизни, кататься на велосипеде, болтать с людьми, хохотать, выпивать вино. Не знаю.
Я не хочу уйти в монастырь или стать депутатом законодательного собрания, у меня нет таких амбиций. Я правда очень люблю поесть, встречаться со своими друзьями, читать классные книги, видеть мир. Вот так мне нравится жить.