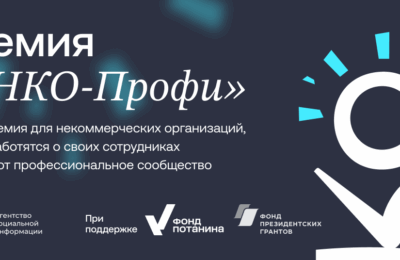Интервью с директором фонда «Подари жизнь» — часть проекта Агентства социальной информации и Благотворительного фонда В. Потанина. «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе.
«Поступи хотя бы на журфак»
Вы росли в телевизионной семье. Поэтому и выбрали журналистику после школы?
Я не собиралась становиться журналистом, всё произошло случайно. Я окончила школу в 1991 году, вскоре случился путч, а через несколько месяцев распался Советский союз. Всё менялось настолько динамично, что было сложно всерьез принимать решение, чем ты будешь заниматься в будущем.
Родные мне сказали: «Ты поступи хотя бы на журфак, оттуда всегда можно перевестись». Закономерно, что такая идея возникла в телевизионной семье: мама у меня режиссер документальных фильмов, дедушка был профессором, преподавал на журфаке МГУ, бабушка была известной ведущей и публицистом. Так что логично, что я оказалась на журфаке.

А дедушка вел у вас пары?
Да, и поставил мне двойку по истории телевидения на первом курсе. Отправил меня на пересдачу, на которой я получила уже четверку. И тут ему уже попало дома от бабушки. Пожалуй, это был единственный случай семейного вмешательства в мое образование на журфаке. Помню, свой диплом я показала деду только тогда, когда у меня уже была назначена дата защиты и назад пути не было.
Вы влюбились в журналистику?
Да. И ужасно спорила с заведующим кафедры Георгием Кузнецовым о том, что считать высшим пилотажем на телевидении. Я считала, что это новости, ведь ты должен успеть в очень короткий отрезок времени максимально доступными аудиовизуальными средствами донести до человека информацию. Большую часть профессиональной журналистской жизни я отработала именно в новостях и ужасно страдаю от того, во что они превратились на телевидении сейчас.
За что вы тогда любили журналистику? Были моменты полного разочарования?
Любила за драйв, за честность. А разочаровывалась я не в профессии, а в том, что происходило вокруг. С 2009 по 2012 годы я совмещала работу на радио City FM и в телекомпании «Совершенно секретно». Когда случилась Болотная («Марш миллионов» на Болотной площади 6 мая 2012 года, закончившийся столкновениями с полицией. — Прим. АСИ), вдруг поменяли руководство радиостанции. Я потеряла ощущение комфорта и, будучи человеком резким и иногда бескомпромиссным, приняла решение уйти.
В 2014 году я поняла, что надо окончательно уходить. Была масса разных факторов: и закон Димы Яковлева, и Болотная, и Крым.
«У людей нет никаких проблем с эмпатией»
С основателями фонда «Подари жизнь» вы познакомились еще тогда, когда не было ни организации, ни названия. Расскажите об этом.
В 2004 году я прочитала пост Кати Чистяковой в ЖЖ о поиске доноров крови. Оказалось, что мамы детей с онкологическими заболеваниями буквально бегают по городу и просят незнакомых людей, которых встречают в магазинах или аптеках, прийти и сдать кровь. Это не фигура речи — такая ситуация действительно была в начале 2000-х.
Я написала Кате, что работаю ведущей на «Третьем канале» и хотела бы помочь. Мы сделали серию материалов о проблеме и заодно проверили, насколько СМИ способны привлечь людей к благотворительности. Стало понятно, что всё работает — телезрители пошли сдавать кровь.
В начале 2000-х было много инициативных групп, которые просто собирали всех желающих и придумывали какой-то волонтерский проект. А как из этих групп создавались полноценные организации — в том числе фонд «Подари жизнь?»
Когда мы делали сюжет о дефиците донорской крови, никакого фонда не было — была просто группа волонтеров «Доноры –– детям». Другая группа волонтеров — Дина Корзун и Чулпан Хаматова — организовали благотворительный концерт в 2005 году, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению донорской крови. Ни у кого из этих групп не было в планах сделать фонд, более того, и Дина, и Чулпан категорически этого не хотели.

Но потом стало понятно, что это начало долгого пути, хотя бы потому что невозможно взять и перевести деньги в больницу на конкретные нужды – должно быть юридическое лицо, которое будет оказывать помощь и клиникам, и напрямую детям. Помню, как летом 2006 года мне позвонила Катя Чистякова и сказала: «Мы решили зарегистрировать фонд, ты не хотела бы войти в попечительский совет?»
Вы были рады?
Ужасно! Это такая честь, на самом деле. Часто попечительский совет в фондах нужен для красоты и престижа. А у нас всё по-другому: все крайне активно участвуют в деятельности фонда, по-настоящему вовлечены в работу фонда и даже волонтерят. И я не исключение.
Вы получали удовольствие от волонтерства?
Когда мы говорим о волонтерах «Подари жизнь», то обычно представляем себе людей, которые идут в больницу к ребенку. Я никогда не была таким волонтером, но я могла предложить свои навыки. Например, помогала общаться со СМИ, вести диалог с силовыми ведомствами, договаривалась с милицией об охране во время благотворительных концертов — у меня ведь оставались связи после работы в политической журналистике.
«Всего шесть лет волонтерства — и меня наконец взяли на работу»
В то время можно было всерьез задумываться о карьере в благотворительности?
Нет! Я помню, что в 2008 году Чулпан встречалась с Рубеном Варданяном и рассказала ему, что все в фонде ужасно зашиваются и что нужен какой-то менеджер. Рубен посоветовал ей Григория Мазманянца, у которого уже был большой опыт работы в системе некоммерческих организаций. И он был как раз тем человеком, которого мы сегодня называем профессионалом НКО. Первая встреча с ним произвела на нас сильное впечатление.
Но даже тогда у меня лично не было мыслей о том, что работа в НКО может стать карьерой. Дауншифтингом — да.
Когда фонд разросся до такой степени, что уже нуждался в полноценной пресс-службе, Гриша сказал мне: «Всё, приходи хотя бы на полставки — уже надо». Я согласилась. Помню, что когда пришла оформляться, пошутила: «Видите, всего шесть лет волонтерства, и меня наконец взяли на работу!»
Кстати, почему вы стали волонтером, который помогает именно детям с онкологией? Вы особо чувствительны к этой проблеме?
Я не могу сказать, что мне было принципиально важно помогать именно детям. Так просто сложилось, что я довольно подробно узнала о проблемах детской онкологии и, конечно, не смогла пройти мимо. Когда Гриша предложил мне пообщаться с семьями, которым помогает фонд, я честно сказала, что я буду полезнее для фонда, если буду заниматься тем, что умею.
Я помогаю фонду, не находясь в постоянном контакте с детьми и их родителями, у нас для этого, безусловно, есть сотрудники и волонтеры. А я выстроила свою работу так, чтобы мне было психологически комфортно, а значит, не страдало дело. И иногда для этого мне легче не знакомиться лично с подопечными.
Психологически некомфортно — то есть страшно?
Да. За цинизмом, который ты невольно накапливаешь, когда работаешь в журналистике и часто сталкиваешься с проблемами людей, всё равно остаются страхи. Цинизм — это ведь броня, прикрытие.
Мы договорились с командой о том, что мне бы хотелось соблюдать дистанцию и не погружаться в личные отношения с подопечными. Конечно, при этом я остаюсь в курсе всех проблем, которые нам нужно решать адресно, погружена в истории подопечных, знаю об их новостях и проблемах.
Но все-таки есть среди подопечных фонда дети, с которыми вы поддерживаете контакт?
Да, есть несколько человек, с которыми я общаюсь. Но это бывшие подопечные — как правило, на голову выше меня и такие взрослые, что даже уже выпить с ними можно на празднике.
И это общение дается вам легче, потому что истории бывших подопечных — с счастливым концом?
Совершенно верно.
В 2012 году пиар благотворительного фонда — это какая работа?
2012 год — это всё еще попытка заинтересовать медиа, сейчас — меньше. Раньше, когда глянцевые журналы хотели брать интервью у Чулпан Хаматовой, мы отвечали: «Конечно, но при условии, если вы дадите ей возможность рассказать о фонде». Прошло десять лет, и уже смешно, когда журналисты, договариваясь с Чулпан об интервью, обещают: «Мы разрешим про фонд рассказать».
Как вы взаимодействуете с журналистами сейчас?
Фонду нужно сделать так, чтобы журналистам было интересно рассказывать о проблемах, которые нас беспокоят. Мы всё время ищем новый поворот и всегда изучаем ту целевую аудиторию, с которой работает СМИ, и темы, которые читателю интересны. Мы готовим для журналистов «рыбу» материала — то есть делаем настоящую продюсерскую работу. И генерируем идеи.
Несколько лет назад я предложила руководителю службы информации и генеральному директору «Пятого канала» делать социальные сюжеты о наших подопечных. Они мне говорили: «Мы что-то не уверены, что соберем нужную сумму». А я их подбадривала: «Давайте попробуем». И помню, как во время первого эфира мы созванивались с ними и радовались — я в режиме реального времени видела, сколько денег нам жертвуют телезрители. Собрали 1 753 000 рублей. Потом я подумала: «А что если два раза в месяц выпускать такие сюжеты?» Канал сомневался в этой идее, но я опять просила: «Давайте попробуем!»
Когда канал поверил в возможности своей аудитории, решили запустить отдельную рубрику внутри новостной программы «День добрых дел». И были случаи, когда за сутки телезрителям удавалось собрать больше 30 миллионов.
Чтобы сюжет собрал хорошую сумму, каким он должен быть? Ребенка должно стать жалко?
Я не люблю манипуляции и токсичность, хотя знаю, что это работает. И потом, тональность все-таки выбирает журналист, а фонд собирает информацию о ребенке и помогает организовать съемки. Но есть абсолютно чудовищные вещи, о которых мне каждый раз тяжело говорить.
Я точно знаю, что маленькая девочка с голубыми глазами и с косичками — это идеальный фандрайзинговый инструмент. То, что я говорю, у меня по-человечески не укладывается в голове, но это факт.
Конечно, мы никого не отбираем по внешним признакам и публикуем все истории детей. Но всё равно смотрим на нашу аудиторию и анализируем, какие сборы закрываются быстрее всего.
В какой-то момент мы обратили внимание, что раньше истории подростков почти ничего не собирали, а сейчас собирают хорошо. Знаете почему? Потому что дети наших благотворителей выросли — и теперь подростки и молодые взрослые им ближе по возрасту, чем маленькие дети. В основном посетители сайта «Подари жизнь» — это женщины, и любая из нас так или иначе каждую историю проецирует на себя: «А что если бы это случилось с моим ребенком?»
Что самое важное сделала пресс-служба за то время, что вы её возглавляли?
Если говорить конкретно, то для меня очень важно, что мы начали выпускать благотворительные сюжеты на телевидении. Но вообще всё, что вы знаете о «Подари жизнь», сделано пресс-службой фонда и абсолютно бесплатно. Мы никогда не платили за публикации или за размещение рекламы.
На мой взгляд, гордиться этим довольно просто, потому что «Подари жизнь» — фонд с безупречной репутацией. И это было главным условием Дины Корзун и Чулпан Хаматовой. Всё должно быть абсолютно прозрачно. Если человек хочет узнать, на что потратили его пожертвование, он должен легко получить эту информацию.
У нас такой адский конвейер отчетов и такой огромный пакет документов, что финансовый директор фонда даже написал однажды в нашей рассылке: «Дорогие, когда вам дарят букеты, не выбрасывайте ленточки: ими очень удобно отчеты перевязывать».
Навык сдерживать себя
Как вам предложили стать директором фонда?
Екатерина Чистякова приняла решение уехать учиться в Америку и, возможно, там остаться. Она задумывалась о преемнике и предложила мне. У меня никогда не было этой амбиции, честно скажу, мне очень нравилась моя работа пиар-директора — по-настоящему творческая. Креатив, как оказалось, можно накачать как мышцу: сначала ты сидишь и выдавливаешь из себя идеи, а потом они начинаются литься потоком, и уже не знаешь, как этот фонтан перекрыть. Я получала от этого процесса удовольствие.

Фото: Слава Замыслов / АСИ Для спецпроекта «НКО-Профи» Агентства Социальной Информации 
Фото: Слава Замыслов / АСИ Для спецпроекта «НКО-Профи» Агентства Социальной Информации 
Фото: Слава Замыслов / АСИ Для спецпроекта «НКО-Профи» Агентства Социальной Информации
После разговора с Екатериной я поняла, что кто-то должен взять на себя ответственность по управлению работой фонда. И я не могу отказаться, так как у меня на это есть силы, опыт и понимание процессов работы.
Но прошло несколько месяцев, прежде чем я заняла пост. Коллеги по правлению фонда предложили посмотреть также на другие варианты, на людей не из фонда, и мы собеседовали разных кандидатов.
Было хоть немного обидно?
Меня это немного царапнуло, не буду врать. Я думала: «Ну как же? Я ведь уже согласилась». Но вот уже три года как я директор.
А каким должен быть директор фонда «Подари жизнь»?
Понятия не имею! Но нынешний вроде всех устраивает (смеется). Хоть мы часто внутри сферы и рассуждаем на тему того, что управление и развитие фондов ничем не отличается от бизнес-процессов, но мне кажется, на должности директора «Подари жизнь» всё-таки должен быть не просто управленец, а человек, который хорошо понимает проблемы детской онкологии, особенности нашей сферы, понимает то, чем фонд занимается.
У вас получается управлять?
Я учусь до сих пор и погружаюсь в темы, о которых раньше не так много знала. Сейчас — мне так кажется — я могу детально рассказать, как у нас устроен фандрайзинг, а раньше не могла. Потому что пиар и фандрайзинг в фонде «Подари жизнь» всегда были разведены.
А почему? Во многих фондах этим занимается одна команда.
Чтобы не было конфликта интересов. Раньше над пиар-директором и директором по фандрайзингу стоял исполнительный директор, и он разрешал наши споры. Один говорит: «Это же деньги!» — а второй возражает: «Это же ущерб репутации!» Исполнительный директор мог объективно оценить риски и помочь принять верное решение. Сейчас такие вопросы приходится разруливать мне.
Вы что-нибудь в себе изменили, когда заняли пост директора?
Мое главное личное достижение — навык сдерживать себя. Я очень эмоциональный человек. Когда я возглавляла пресс-службу фонда, мы сидели в одном кабинете с Гришей, исполнительным директором, и в сложных ситуациях могли орать друг на друга так, что едва стекла не вылетали. Но это совершенно ни к чему — я знаю, что склонна к таким взрывам, и теперь это контролирую.

Нужно просто пойти и найти деньги
Когда фонд только регистрировали, в России еще не было большого сообщества НКО, которые занимаются помощью детям с онкологическими заболеваниями. Прошло 15 лет, задач стало больше?
Конечно, сборы были совершенно другие и подопечных было меньше. Лечение детской онкологии стремительно развивается: появляются новые лекарства и методы лечения, которые сейчас помогают тем детям, у каких раньше не было шансов. Наша главная цель — не отказывать в помощи ни одному ребенку с проблемой нашего профиля. Поэтому у нас очень много перспектив для роста, так как новые задачи появляются постоянно.
Чего это стоит фонду?
По-разному. В некоторых случаях достаточно качественной юридической консультации, а у фонда армия волонтеров-юристов, которые могут помочь семьям подопечных в разных городах получить бесплатные лекарства. А иногда это нам стоит миллионов, если речь идет о незарегистрированных препаратах, которые нужно привозить в Россию специально для конкретных детей.
Мы добились того, чтобы у лекарств не было высоких таможенных сборов. Согласитесь, сложно объяснить жертвователю, что он должен отдать, условно, 120 долларов за лекарство, которое стоит 100 долларов на самом деле, потому что часть нужно заплатить Родине. А за что здесь Родине платить? За то, что она сама не может обеспечить лекарством ребенка?
Если все лекарства, необходимые для лечения онкозаболеваний, зарегистрировать в России, проблема доступа к препаратам исчезнет?
Когда препарат все-таки проходит регистрацию в России, он становится доступным, его могут закупать клиники, но не всегда это реально — иногда им просто не хватает государственного финансирования, так как инновационные, новейшие лекарства очень дорогие.
Но есть еще нюансы. Например, существуют такие зарегистрированные препараты, которые недоступны для детей, потому что их эффективность доказана в России только для взрослых. А значит, детская клиника уже не может использовать лекарство официально — только по индивидуальным показаниям. Но сейчас Госдума обратила внимание на эту проблему лекарств off-label, и скоро будут первые слушания.
В этом есть ваша заслуга?
В первую очередь это заслуга наших врачей. Да и вообще наш фонд появился благодаря тому, что врачам, с которыми мы познакомились больше 15 лет назад, было не всё равно. Они бились за каждого ребенка и продолжают это делать. Это люди, которые пойдут до конца за каждого пациента.
Я знаю точно, что если когда-нибудь кто-то из семей подопечных фонда решит выйти на площадь с плакатами и привлечь внимание к проблеме нехватки лекарств, врачи из Центра Рогачева встанут рядом.
Дефицит лекарств сейчас менее ощутим, чем десять лет назад?
Это, можно сказать, парадоксальная ситуация: с одной стороны, изобретаются новые лекарства, с другой стороны, исчезают базовые препараты для лечения детского рака.
Система ценообразования и согласования предельных отпускных цен на лекарственные препараты целиком и полностью зависит от Федеральной антимонопольной службы, решения которой далеки от реальности и вызывают недоумение. Всё это может привести к полнейшему коллапсу фармрынка и к исчезновению даже простых лекарств. И мы уже не так далеки от этого, как может показаться.
Какое-то время назад мы с трудом смогли добиться допуска «Винкристина» к госзакупкам без ограничений. Это старое и недорогое лекарство — составная часть огромного числа протоколов химиотерапии, в первую очередь у детей. Замены ему нет нигде в мире.
Но сейчас похожий сценарий намечается и с не менее важным, базовым препаратом «Цисплатином», который есть во многих протоколах лечения детской онкологии. Недавно было опубликовано решение об отказе в согласовании перерегистрации предельных отпускных цен. Это значит, что препарат полностью исчезнет с рынка.
НКО в силах на что-то повлиять?
Хотелось бы, чтобы в решении подобных вопросов регулирующие инстанции были более гибкими, чаще прислушивались к экспертному сообществу, понимая, что на кону стоят тысячи детских жизней.
Одна из высочайших несправедливостей — это когда ребенок не может получить лечение, потому что на него не хватает денег. Этого быть не должно. Что значит нет? Нужно, значит, просто пойти и найти деньги — и мы с этим помогаем. Но еще хуже, когда лекарства просто нет на рынке. И его невозможно купить. Для случая, который ещё 10 лет назад казался критически сложным, сегодня можно подобрать простое и доступное лекарство.
Так же и с трансплантацией. На заре фонда нам часто приходилось объяснять, что лучше не пересаживать костный мозг от родителей, потому что организм может его отвергать (РТПХ — реакция трансплантата против хозяина). А сейчас уже научились очищать трансплантат от родственников так, что он подойдет даже лучше, чем чужой костный мозг. И неродственная трансплантация сейчас нужна только в некоторых ситуациях, когда родители по объективным причинам не могут быть донорами.
Всего десять лет прошло, а ситуация в корне изменилась. Раньше мы тратили сотни тысяч евро на доставку неродственных трансплантатов, а сейчас в некоторых случаях можем обойтись и без этого.
Правда, за реагенты для очистки донорских клеток все равно чаще всего приходится платить благотворительным фондам. Но благодаря большему количеству родственных трансплантаций в прошлом году, когда границы были закрыты, детям могли делать пересадки.
Что сейчас больше всего препятствует помощи детям с онкологическими заболеваниями?
На мой взгляд, нехватка коек. Центры, где ребенку могут сделать пересадку костного мозга, есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Строятся в Ростове и Краснодаре, например, но этого недостаточно.
Мы не занимаемся госпитализацией — это ответственность клиник. И врачам приходится принимать это чудовищное решение: кому делать пересадку прямо сейчас, а кого поставить в очередь. Конечно, эту очередь двигают, если заболевание ребенка переходит в ту стадию, когда трансплантация требуется немедленно. Но в большинстве случаев для любого ребенка лучше трансплантацию не откладывать.

Поэтому фонд развивает центры трансплантации костного мозга в стране. Например, мы предложили сотрудничество Екатеринбургу — помогли им с заменой оборудования, с повышением квалификации врачей. Такой же проект сейчас ведем в Красноярске, где вообще нет трансплантационного отделения, хотя оно очень нужно: дети едут на операцию в Москву через всю страну. И в прошлом году 17 детей из региона нуждались в трансплантации и ее не получили.
Как обучаются врачи?
Они специально приезжают в Центр Рогачева и работают с лучшими врачами в нашей стране, на мой взгляд. Это один из самых крупных проектов фонда, который очень понятен для благотворителей — нам часто жертвуют довольно крупные суммы именно на образование врачей.
Расскажите о пансионате в «Измалково», который сейчас строит фонд. Какую проблему он решит?
В 2016 году Правительство Москвы передало нам в аренду огромный участок в Переделкине со старой усадьбой семьи Самариных в очень плохом состоянии. После революции там был госпиталь, потом легочный санаторий для детей, который в 90-е закрылся. Нам передали участок, чтобы мы построили там корпуса пансионата для детей — при условии, что мы отреставрируем усадьбу.
Пансионат нужен, чтобы дети, которые приезжают в Москву на проверку, могли где-то жить. Когда ребенок проходит лечение, ему совсем не обязательно всё время находиться в клинике — иногда достаточно приходить туда один раз в день. Сейчас фонд оплачивает обычные квартиры, где в каждой комнате живет семья, это не очень удобно. На территории Центра Рогачева есть маленький пансионат, но его недостаточно.
Проект сложный и очень дорогой. Конечно, наш фонд не может заниматься реставрацией памятников культурного наследия, все пожертвования мы можем направлять только для помощи детям. Нам повезло, потому что Роман Абрамович предложил взять реставрацию усадьбы на себя, если парк вокруг нее будет открытым общественным пространством. Несколько небольших зданий уже готовы, главная усадьба сейчас на реставрации, а парк, надеемся, откроется этим летом. Мы же как фонд этим летом приступим к строительству новых корпусов на территории усадьбы – там будут жить дети.
Мы не будем тратить на строительство собранные в фонд пожертвования, для создания пансионата мы привлекаем целевые пожертвования от компаний и состоятельных людей. И даже предлагаем, чтобы каждый домик был именной – в честь благотворителя, который пожертвовал деньги на его строительство.
«Выгорания не чувствую. Это тревожный знак?»
Человеку, который долго работал в эфире, привычно быть всегда на виду. Возглавлять прес-службу фонда и даже руководить НКО — это все-таки часто быть в тени.
В какой-то момент мне даже стало комфортно от того, что я взяла и свалила в эту тень. Сейчас, когда я стала директором и провожу много встреч, даю интервью, появляюсь на крупных публичных мероприятиях, я иногда думаю: «Что, опять?»
Как вы вообще себя чувствуете внутри НКО? Выгораете?
Пока что выгорания не чувствую. Может быть, это уже тревожный звонок? Не знаю. Но в фонде «Подари жизнь» очень чутко относятся к эмоциональному состоянию. У фонда есть психологи, которые работают с родителями, волонтерами и сотрудниками. На нашем сайте висит подробная инструкция «Как помогать и не выгорать» — это важная тема для людей сектора. И чтобы не потерять по-настоящему крутых специалистов, нужно за этим следить.
Как поменялось отношение к сотрудникам НКО с того времени, когда вы начинали заниматься благотворительностью?
Когда я делала первые сюжеты о социальных проектах на «Третьем канале», мне хотелось показать, что синонимом благотворительного фонда не может быть слово «прачечная». Сейчас в медиапространстве чувствуется большое уважение к НКО. И даже у власти изменилось отношение. Чиновники разговаривают с нами практически на равных. А раньше они смотрели на нас как на назойливых мух или безумных теток-общественниц.
Известность фонда «Подари жизнь» — это его сила или уязвимость?
Известность фонда — это скорее про большую ответственность, а не про излишние возможности. У нас никогда не было задачи стать каким-то монополистом, и нам ни в коем случае не хочется сравнивать себя с другими. Но объективно детская онкология — одна из самых дорогостоящих сфер лечения, тысячи детей единовременно на нашем попечении, а еще инфраструктурные проекты, работа над законодательными несовершенствами и многое другое. Поэтому мы просто вынуждены быть известными и собирать больше миллиарда рублей в год.
И если для компаний и юридических лиц, наоборот, очень важен статус, репутация, экспертность, опыт фонда, они ищут таких партнеров, — то от частных лиц мы часто слышим: «Вы и так богатые, я лучше помогу маленькому фонду, которому никто не помогает».
Это заблуждение, потому что те суммы, которые мы вынуждены собирать, говорят лишь о том, что такая огромная помощь нужна детям с онкологическими заболеваниями. Этой проблеме была посвящена наша рекламная кампания «Смысл денег»: мы показали, какие суммы нужны на лечение детей.
А еще здесь хочется сделать отсылку к моей первой профессии. Очень многие считали, что с телевизионной фамилией в журналистике проще работать. Нет! Ведь не моя же бабушка выходит за меня в эфир, а с меня спрос всегда больше — еще и дома могут сказать: «Чего-то сегодня не очень было». Знаете, как это больно? Так же и в НКО. Сложно, когда ты один из самых известных фондов.
Здесь много перфекционистов, и главный из них — Чулпан. За какой бы проект ты ни брался, ты должен каждый раз повышать планку или, как минимум, соответствовать своему же уровню. Понятно, что все допускают ошибки — споткнуться можно. Но падать нельзя.