Интервью с Викторией Агаджановой, директором фонда «Живой» – часть проекта Агентства социальной информации, Благотворительного фонда В. Потанина и «Группы STADA в России». «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал кроссмедийный, выходит в партнерстве с порталом «Вакансии для хороших людей» и журналом «Русский репортер».
Недавно на YouTube появился ролик, который посмотрело полмиллиона человек, где вас назвали в числе всего двух, якобы, фондов, которые помогают взрослым.
Да, я тоже на этот ролик обратила внимание и была крайне удивлена, что нас только два.
Ролик вам понравился?
Немного провокационная подача, но, видимо, время того требует. Формат, лично мне, как человеку, отработавшему десять лет в журналистике, не близок, но имеет право на существование в современных реалиях. Информация в ролике немного неполная. Можно было более глубоко покопаться в теме, но, видимо, там и задачи такой не стояло.
Думаю, на нас обратили внимание, потому что даже в названии официально указано: благотворительный фонд помощи взрослым «Живой».
В каком году вы начали работать в фонде?
Это было так давно, что трудно вспомнить. В 2015-м я перешла на должность директора, значит, начала работать в 2014 году. И достаточно долго работала в одиночестве.
Как вообще можно работать в одиночестве в целом фонде? Вы были, как Том Хэнкс в фильме “Изгой”?
Я была, как Том Хэнкс в фильме “Терминал”: обратно вернуться не могу, дальше идти тоже не могу. Паспорт, правда, никто не отбирал, и на том спасибо.
Когда я пришла в фонд, у нас практически не было подопечных, мы не брали новые истории, не закрывали старые долги. Фонд находился в состоянии консервации. Я пришла в апреле. За четыре месяца с начала года было собрано около 200 тысяч рублей. Было понятно, что если сейчас не начать активную работу, то можно благополучно вешать вывеску «Магазинчик закрывается». Но мы рискнули продолжить. Вроде, пока получается.
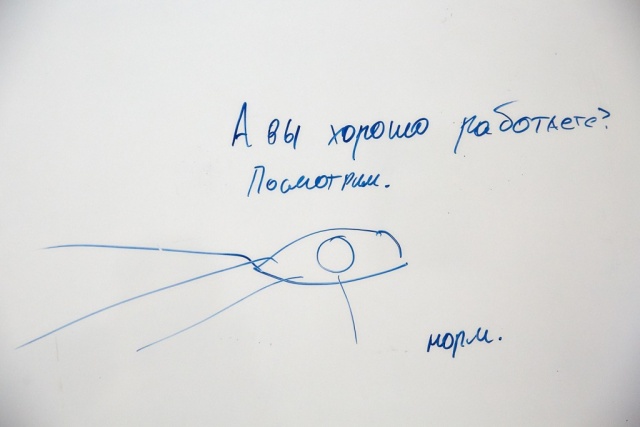
Это ваш первый опыт работы в благотворительности?
Именно работы — да. Я волонтёрила с 23-24 лет. Это были движения энтузиастов, которые помогали детским домам. Причем, мы изначально ставили для себя цель «не везите подарки, везите добрые дела», когда эта идея была ещё не раскручена.
Я закончила вуз в Самаре и переехала в Москву. Помогала группе энтузиастов, Обществу памяти Насти Рогалевич, чьи дети перенесли трансплантацию печени в Бельгии. Эта группа потом стала основой для фонда “Жизнь как чудо”. Потом я волонтёрила в фондах «Подари жизнь», «Старость в радость». Но благотворительность как работу для себя не рассматривала никогда.
Это все было параллельно с журналистской карьерой?
Да, телевидение всегда было мечтой. Было два направления, куда меня тянуло, — медицина и журналистика. Мне хотелось и писать, и быть хирургом.
Повторить путь Булгакова и Чехова?
Да, хотя на тот момент я об этом даже не задумывалась. Медицинский был на горизонте до десятого класса, пока не началась серьёзная химия. На дополнительные занятия в семье денег не было, поэтому филфак перевесил.
Я отучилась пять лет, печаталась в местных газетах с 11-го класса. Но мечтой всегда было телевидение. Работать на местное телевидение я не пошла просто потому, что на тот момент самарское телевидение ничего серьезного из себя не представляло.
Поэтому после университета я отказалась от аспирантуры и поехала покорять столицу. Но в Москве столкнулась с тем, что, куда бы я ни шла, требовалось либо московское образование, либо опыт работы в аналогичной позиции. Мои журнальные публикации даже не открывались. Самарский госуниверситет московских работодателей не интересовал.
Как вы вышли из ситуации?
Я помыкалась по разным издательствам, успела поработать в жутком индийском колл-центре (выдержала ровно один день), порасклеивала листовки и подумала, что остаток накопленных и заработанных средств нужно потратить на учёбу.
И пошла учиться в Московский институт радио и телевидения на полугодовые курсы редактора телепрограмм. Через пару месяцев руководитель нашего курса предложил мне работу младшим редактором в спутниковом образовательном канале СГУ ТВ. Из редактора через месяц я внезапно переросла в автора и ведущую телепрограммы юридической направленности. Еще месяца через три — дорвалась до своей любимой рубрики «Новости культуры», стала ездить в театры, общаться с режиссерами, художниками, артистами. Мне безумно нравилось. Но через какое-то время стало понятно, что спутниковые рамки пора перерастать.
Я ушла оттуда, успела поработать полгода на телеканале «Культура». Полтора года на «ДТВ» делала цикл «Как уходили кумиры». Небольшой командой мы выпускали часовые фильмы с хорошими рейтингами.
Потом я перешла в студию, которая делала спецпроекты для Первого канала, сняла два документальных фильма. На начале второго фильма я поняла, что в положении и не хочу больше беготни, потому что домой ты приходишь раз в три дня — принять душ и поменять одежду. Все остальное время проводишь либо на съемках, либо на студии.
Я благополучно взяла тайм-аут и немного посидела дома с ребенком. Это было правильное решение, но в какой-то момент я поняла, что надо что-то делать: деньги на исходе, а сидеть на шее у родителей, когда тебе под 30, не солидно.
Как-то раз вечером я искала работу и наткнулась на объявление о продаже салона цветов. Мне так захотелось этот салон, что я попросила папу одолжить мне денег. Буквально в девять вечера вышло объявление о продаже, в семь утра я получала ключи. Что такое цветы, как вообще вести бизнес — я не знала ничего.

Почему после декрета вы не вернулись на телевидение?
Я не очень люблю об этом говорить, потому что придется в какой-то степени хаять бывших коллег. Но смысл работы на телевидении, когда ты внутри, теряется достаточно быстро. Погоня за «жареным» мне была не очень интересна. Особенно сильно это проявилось при переходе на центральное телевидение. Я прекрасно понимаю, что не выдержу того ритма и той направленности, которая сейчас на нашем телевидении.
А салон цветов я подняла с нуля и раскрутила до достаточно успешного проекта. Причем, салон этот был в четырехзвездочном отеле. Территория закрытая, покупатель “извне” его просто так не найдёт. Зато у меня была возможность предлагать что-то для оформления свадеб, мероприятий, конференций.
Сами всему учились?
Да, сама. Сначала я не могла привести никак в порядок свои руки, потому что после стольких часов в воде они превращались в тыкву. Я взяла на работу флористку, которая оказалась замечательным человеком, мы до сих пор дружим. Она — высококлассный специалист, всему меня научила. Сейчас для меня собрать цветочную композицию на свадебный стол — это полчаса работы.
Периодически я работала в салоне одна. Кто там у нас с ведром воды грязной идет по коридору? Директор идет!
Пока вы работали в бизнесе никакого специализированного образования не получали?
Нет, конечно. Помог опыт работы в журналистике: когда стесняешься ты или нет, хорошо ты выглядишь или плохо, но все равно идешь и разговариваешь. Выход на новых клиентов — это: «Здравствуйте. Какие у вас красивые розочки! А еще у вас шикарно бы смотрелся фикус».
У нас был клиент из Новосибирска, который летал в Москву специально для того, чтобы жене подарок к юбилею купить в нашем салоне. Он прилетал, покупал и улетал. Это было для меня очень серьезным фактом признания моего вкуса.
Но и салон в какой-то момент не то чтобы надоел: я просто очень не люблю контакты с нашими проверяющими органами, которые так и норовят сделать гадость.
Я решила, что нужно немного отдохнуть. Я не помню, как рос мой ребенок, потому что бизнес в цветах — это тебе в шесть утра надо быть на базе, возвращаешься домой к 11 вечера, а завтра в шесть утра опять надо быть на базе. Хорошо, что ребенок не спрашивал: «Девушка, вы кто?»
У меня были накопления. Это позволило мне благополучно продать салон и оказаться в ситуации, когда я хочу что-то делать, но обратно в журналистику я не хочу и обратно в бизнес тоже не хочу. В это время мне позвонила Оля Пинскер, директор фонда «Адреса милосердия», спросила: «Чем ты занимаешься вообще?».
Как вы познакомились с Ольгой Пинскер?
Был такой парень, Тимур Аванесов, врач-рентгенолог, который заболел раком. Оля собирала ему деньги на лечение в Израиле. Я тоже впряглась, писала письма донорам потенциальным. Тимура мы не спасли, но с Олей продолжили общение.
Так вот, она позвонила мне и когда узнала, что я ищу работу, предложила за небольшую зарплату отвечать на письма о том, что фонд “Живой” приостанавливает свою деятельность. Я сказала: «Почему бы и нет?» Села писать эти письма и только потом спросила у Оли: почему закрывается фонд. Она ответила, что взрослых никому не жалко. Я предложила попробовать вытянуть эту историю.

До вас фондом руководили настоящие профессионалы. Почему случился кризис?
При Тане Константиновой (первый директор фонда “Живой”) фонд поднялся и наращивал обороты. Но Таня к определенному моменту просто выгорела и даже хотела уйти из благотворительности. Потом директором была Оля, которая параллельно руководила «Адресами милосердия» и растила пятерых детей. «Живой» пришел в упадок не потому, что Оля плохой работник, а потому, что это слишком тяжелая ноша для одного человека. Когда решила перезапустить фонд и взяла первого подопечного на реабилитацию на сумму 200 тысяч, меня трясло, потому что я совершенно не понимала, откуда я возьму эти деньги. Потом, благодаря Теплице социальных технологий, мы сделали новый сайт и он был воплощением того, о чем я мечтала. Со временем сайт стал настолько тяжелым, что на открытие страницы у нового пользователя уходило порядка двух минут — это серьезная потеря доноров. Поэтому сейчас мы работаем над созданием нового технологичного сайта.
С кем вы советовались в первое время?
Я периодически звонила и донимала своими вопросами наших учредителей. Больше всего доставалось как раз Оле Пинскер. Но мне сразу был выдан такой кредит доверия, что у меня не возникало мысли, что я могу навредить фонду. Я очень бережно всегда отношусь к вещам, особенно чужим вещам. Если я беру у подруги сумочку, то подруга может быть уверена, что сумочку я ей верну в том виде, в котором она мне дала. Если я беру в управление фонд, моя задача – сделать так, чтобы на тот момент, когда я этот фонд буду передавать в руки кому-то другому, он стал даже лучше.
Но есть такая поговорка: «Плохо не надо делать, плохо само получится». Я на тот момент еще не очень четко понимала, что хорошо – это не только финансовые показатели, но и репутационные. У нас была пара историй, в которых фонд достаточно серьезно подставился репутационно.
Например?
Была история про мальчика по имени Галактион Колганов, который в 17 лет пострадал при падении с мотороллера. Реабилитация ему нужна была серьезная, дорогостоящая, почти миллион нужно было собрать. И тут мне позвонили из Дома актера: девочка, которая делала для них студенческий проект, увидела эту историю, позвонила мне и предложила сделать театральный вечер и направить средства Галактиону и актерам, которые бедствуют. Когда она назвала мне фамилии, у меня волосы дыбом встали: не думала, что эти люди когда-то окажутся практически в нищете. Это были Алексей Баталов, Маргарита Терехова и Наталья Фатеева. Я согласилась, но на всякий случай связалась с Домом актера, и его директор подтвердил мне информацию о том, что у актеров бедственное положение.
Мы выпустили эту афишу, а на следующее утро разразился скандал. Меня разбудил звонок адвоката Баталова, который сказал: «Что вы себе позволяете? Вы мошенница и наживаетесь на имени Баталова. Встретимся в суде». Следом мне позвонила разгневанная дочка Маргариты Тереховой. По-моему, от Фатеевой тоже кто-то звонил. Я говорила: «Поймите одну простую вещь: моя задача – это Галактион. Остальные деньги пойдут в Дом актера, я не имею права переводить деньги кому-либо». Получился достаточно громкий скандал. Когда я позвонила директору Дома актера, он сказал: «Мы, вообще-то, хотели сделать сюрприз».
Самое ужасное, что всю эту историю подхватил интернет: многие писали про мошенничество фонда «Живой». В тот момент я поняла: нет ничего проще, чем одним неверным шагом похоронить фонд. Тебе даже делать ничего не надо, просто нужно сказать “да” в какой-то момент.
Я позвонила адвокату Баталова, объяснила ситуацию. Он пообещал отозвать иск. Написала в соцсетях Анне Тереховой, дочке Маргариты Тереховой, честно написала все, как есть. И она, и Наталья Фатеева разрешили использовать их имена для привлечения средств, я им очень благодарна. В итоге мы действительно собрали больше миллиона рублей и, с разрешения семьи Тереховой и семьи Фатеевой, отправили эти деньги на лечение Галактиону.
Как вы пережили это?
Очень тяжело. Я начала седеть. До этого я гордилась тем, что мне уже за 30, а я еще ух. А утром я проснулась с седыми волосами. Это было очень сильное испытание моих нервов, и я очень благодарна моим учредителям. Можно было рявкнуть: «Мы тебе доверили фонд!», а они сказали: «Да, ошиблась, да, косяк. Но ты ни у кого ничего не отбирала, деньги налево не тратила. С нашей стороны все было прозрачно”. Я в первый и, надеюсь, в последний раз вывешивала медицинские документы пациентов, потому что это медицинская тайна.
Точно так же, как мы никогда не публикуем фотографии людей в трубочках, с оторванными конечностями, в грязной одежде, в бедной комнате. Если это была авария и сейчас человек с трахеостомой — нет проблем, пришлите нам фотографию до аварии, какой он был чтобы наши доноры видели, каким он может стать, если мы ему поможем.

Вам не кажется, что сейчас немного ситуация изменилась? Я не говорю о том, что нужно давить на жалость. Но не хочется скатываться к ситуации условной инстаграм-действительности, где у всех всё хорошо. И когда у человека, допустим, нет руки, а для фото его просят повернуться “здоровой стороной”, чтобы протеза не было видно.
Я тебе объясню, в чем разница. У нас главное в статье сбора — это текст, который говорит: «Вот таким был Ваня до аварии, а сейчас он не умеет разговаривать, не может чистить зубы, не умеет ходить, общается с мамой только глазами». То есть, текст противоречит фотографии, и это работает часто в плюс. Люди видят одно, наш мозг зрительно воспринимает одну картинку, а читает слова совершенно другие. И это конфликт.
У нас была пациентка с врожденным заболеванием. У нее на лице правая половина лица просто “съехала” вниз из-за доброкачественной опухоли, которую раз в четыре года примерно нужно удалять. С каждым разом лицо опускается все ниже, швы заживают сложнее. Я бы ни при каких условиях не попросила ее повернуться здоровой стороной, потому что это унизительно для человека.
На телеканале «Мир» у нас выходят сюжеты в рубрике «День доброты», где показывают человека, как он есть: в трубочках, с переломанными костями. Но это телевидение, здесь специфика другая. Ту же историю мы у нас на сайте показываем через позитивные фотографии. Все можно считать маркетинговыми инструментами, можно считать фандрайзинговыми фишками.
Но мне принципиально важна работа на перспективу, потому что будущее — не за токсичной благотворительностью, а за осознанностью.
Еще один вопрос о позиционировании. В случаях, когда заходит речь о помощи взрослым людям, упор идет на мужчин: “Если заболеет отец, кормилец семьи, то вся семья пойдёт ко дну”. Есть исследования, согласно которым заболевшие мужчины гораздо реже остаются в одиночестве, чем заболевшие женщины. Вам не кажется, что риторику пора сменить? Потому что “мужчина – кормилец” это красиво, но ведь женщина – тоже кормилица.
Дело в том, что женщина — и кормилец, и поилец и все прочее. В российских семьях женщина – это мужчина. Но когда мы говорим «взрослый», автоматически представляем мужчину. Но на самом деле, когда заболевает мама, семья падает в яму.
Что должно произойти, чтобы мы заговорили об этом?
Менталитет должен поменяться. У нас до сих пор менталитет “жена заболела, так зачем она мне такая нужна?” Болезнь не означает, что вся твоя жизнь летит под откос. Это означает, что человек, которого ты любишь, нуждается в твоей поддержке.
Можно сказать, что общество осознало важность помощи взрослым людям?
Помощи взрослым — да. Помощи тем, кто помогает взрослым, – пока еще нет.
В любом случае, мы будем развивать это направление. Будем рассказывать о том, чем занимается каждый из нас. Сейчас у нас трое сотрудников, большую часть времени они работают из дома. Но при этом у меня не замолкает телефон, в разных чатах идет обсуждение рабочих моментов. Доходит до смешного – я запретила своим девочкам, под страхом смертной казни, пользоваться рабочей почтой и рабочими телефонами, чатами в выходные дни и после девяти вечера.
То есть, все мы все равно нарушаем, но при этом я стараюсь за их рабочим временем следить.
У вас на сайте сказано, что вы не берете взрослых пациентов с ДЦП. Почему так?
Мы берем взрослых с ДЦП в случае, если есть сопутствующее заболевание, требующее корректировки или лечения. Заболел взрослый с ДЦП раком — мы его берем. Но реабилитация детского церебрального паралича в наши возможности не укладывается. По-хорошему, взрослому с ДЦП необходима реабилитация дважды в год. Оплатить такую реабилитацию стоит примерно 700 тысяч рублей на человека. В среднем, с ДЦП к нам обращаются 500 пациентов в год — это 15 миллионов примерно, огромные деньги, треть годового бюджета фонда.
При этом, я понимаю, если человек с травмой к нам обращается, то у него есть реальный шанс из своего лежачего положения и полной беспомощности встать на ноги или пересесть в коляску и начать себя обслуживать, а у пациента с тяжелым ДЦП такой возможности нет.
Это ведь тоже к вопросу об осознанности. Люди, которые становятся донорами, должны понимать, что человеку все равно нужна помощь.
Правильно. Но человек, который, например, получил травму, имеет реабилитационный потенциал. В начале реабилитации он лежачий, не разговаривает, с трахеостомой, гастростомой. В конце — он инвалид-колясочник, который умеет сам себя обслуживать, выходит на улицу, умеет купить себе продукты, дышит, разговаривает самостоятельно. Очень часто от одной точки до другой точки несколько месяцев пути. Если в этой ситуации человека не поддержать, то он всю жизнь будет существовать на нищенскую пенсию в лежачем положении. У нас есть шанс довести его до той точки, где он сам сможет зарабатывать себе деньги на пропитание.
В случае с ДЦП нет начальной и конечной точек — это прямая в лучшем случае. Должна быть программа помощи таким людям. Должен быть создан отдельный государственный, а не благотворительный, фонд. К сожалению, государственные программы под это не заточены.
Это парадокс российский. В России существует главный реабилитолог страны, но нет факультета или отделения в медвузе, на котором лечат на врачей-реабилитологов. У нас учат на инструкторов ЛФК, эрготерапевтов, физиотерапевтов. Но реабилитация как отдельное направление в медицине у нас не существует. С нового года обещают ее внедрить, и мы все ждем, потирая руки.

У вас среди спонсоров есть организации, с которыми не все фонды возьмутся сотрудничать. Например, магазин интимных товаров.
Я все жду, когда легализуют марихуану (смеется) и к нам придут кофешопы: «Купи кексик в пользу фонда «Живой»».
Был бы отличный информационный повод.
У нас уже была история с алкогольным брендом, с Bacardi. Потом — с магазином “Точка любви”. Я уже смеялась: «Давай пойдем в эскорт-услуги, такие деньги там плавают, сделаем социальный публичный дом».
Это серьезная заявка. Но с алкогольным брендом в качестве спонсора и правда трудно: кто-нибудь выпьет, сядет за руль и станет вашим подопечным.
У нас была именно такая, очень красивая история. Мы соединили алкоголь, скорость и ответственное вождение. Что из этого может получиться? Ничего хорошего, по идее. Поэтому мы сделали кампанию «Выпил – за руль не садись». А вырученные средства пошли на помощь пострадавшим от пьяного вождения.
До этого мы делали акцию с Intouch (страховая компания) «Миллион ответственных километров» — это тоже было красиво, интересно и технологично сделано. Нужно было установить на телефон приложение. Каждый раз, когда ты садишься за руль, приложение нужно было активировать, и оно считало километры, которые ты прошел без превышения скорости. За каждый километр фонду капал один рубль. Наша задача была набрать миллион таких километров. В первый год, это был 2014-й, миллион мы набрали за 38 дней. Во второй раз мы набрали миллион за 16 дней, и компания Intouch сказала: «Ребят, мы вас очень любим, вы крутые, но такая короткая рекламная кампания нас не устраивает, повторять мы, пожалуй, не будем». Так мы сделали крутую кампанию и потеряли донора.
Про магазин для взрослых вы так и не рассказали
Так вот, в 2016-м или 2017-м году к нам пришла невероятно красивая хрупкая девушка и говорит: «Здравствуйте, я из магазина интимных товаров, пожалуйста, не говорите сразу нет». Я говорю: «А что, вам уже отказывали?». Она назвала мне ряд серьезных благотворительных организаций, куда она ходила, и кто сказал: «К сожалению, мы не можем».
Я даже написала письмо учредителям, будет ли это скандал, если я на это соглашусь. Но в душе я уже понимала, что согласна на это, потому что это такой же бизнес, как и все остальные. Он абсолютно легальный, это не торговля оружием, не рабство. Каждый из нас хоть раз в жизни пользовался хотя бы презервативами — это точно такой же пласт товаров потребления. Плюс у них есть центр сексуального образования. Мастер-классы там проводят не только по позам и техникам, но и о том, как сберечь здоровье, какие заболевания существуют, как их избежать.
Почему я должна отказывать этому бизнесу? Тем более, у меня нет в подопечных детей, у меня все совершеннолетние. И в донорах нет детей. Хотя вру: мой ребенок регулярно перечисляет нам деньги на фонд. Но она не читает наш сайт. Ей очень нравится отсылать смски, она помогает фондам «Созидание», «Старость в радость» и «Живому». Она две недели волонтерила у нас в фонде, перекладывала документы, складывала, сшивала, сканировала что-то.
Вы в одном из интервью говорили, что семья — это ваш главный волонтерский актив.
Это абсолютно точно, они от меня, наверняка, уже очень сильно устали.
Они как-то высказывают вам это?
Родители периодически спрашивают, когда я, наконец, уйду из этой сферы. Не потому, что они устали и не потому, что я мало зарабатываю и не потому, что я вечно занята и меня дома не видно. Это говорится исключительно из-за этого, что они видели, насколько я иногда сильно эмоционально выжата, что я не могу на какие-то вещи адекватно реагировать.
Я не буду даже скрывать, у меня есть пациенты, с которыми я общаюсь очень близко. Уход такого пациента меня, конечно, вышибает из седла абсолютно. То есть, я знаю, что на этой неделе так себе из меня работничек. С этим нужно справляться. Конечно, когда они видят такую эмоциональную нагрузку и пытаются меня повернуть обратно, может, в бизнес.

Вы говорили, что ушли с прошлых мест работы, потому что потеряли смысл. Здесь смысл пока не теряется?
Нет, смысл не теряется, несмотря на все кризисы. Есть моменты, которые доставляют мне ни с чем не сравнимое удовольствие. В пятницу утром мне нужно было встать в шесть часов утра для того, чтобы в семь выйти из дома и в девять быть в реабилитационном центре «Три сестры», который находится в 100 км от моего дома, чтобы телеканалу «Мир» дать коротенькое интервью, ответить на два вопроса и проведать пациента. По большому счету, я могла попросить телеканал «Мир» приехать ко мне в офис. Но я люблю ездить к нашим партнерам в реабилитационный центр. Там я заряжаюсь энергией, вижу своих пациентов, которые еще вчера не могли сказать «мама», а сегодня уже ругаются с медсестрой, потому что капучино холодный. Это настолько заряжает, ты понимаешь, что делаешь все не зря.
Вы упомянули, что хотели бы в достойном виде передать фонд вашему последователю. Но пока вы к этому не готовы?
Я пока не готова. У нас, к сожалению, определенные фонды ассоциируются с определенными людьми. Я считаю, что этого не должно быть. Смена руководства должна происходить как в Ernst & Young, когда организация не ассоциируется с конкретным лицом.
Я хочу добиться того, чтобы фонд «Живой» ассоциировался не со мной, а стал брендом, чтобы имя говорило за себя. Потому что история, когда я ушла и увела с собой моих доноров, – это каменный век.
К 2020 году мы идем с серьезными цифрами, качественными изменениями в жизни фонда. За счет запусков новых проектов нам будет даже тяжело подсчитать количество тех, кому мы помогли. Мы отошли от исключительно адресной помощи, но продолжаем и адресно помогать. Наша социалка сейчас — как судно, которое получило пробоину, есть два варианта: дать ему утонуть и закрыть чем-то эту пробоину. Мы пока закрываем эту пробоину собой.
В глобальном смысле я работаю на то, чтобы доноры приходили в фонд из-за его дел, а не из-за личности директора. Чтобы верили “Живому”, а не мне. К этому мы все должны прийти.

***
«НКО-профи» — проект Агентства социальной информации, Благотворительного фонда В. Потанина и «Группы STADA в России». Проект реализуется при поддержке Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Информационные партнеры — журнал «Русский репортер», платформа Les.Media, «Новая газета», портал «Афиша Daily», онлайн-журнал Psychologies, порталы «Вакансии для хороших людей» (группы Facebook и «ВКонтакте»), Союз издателей ГИПП.








