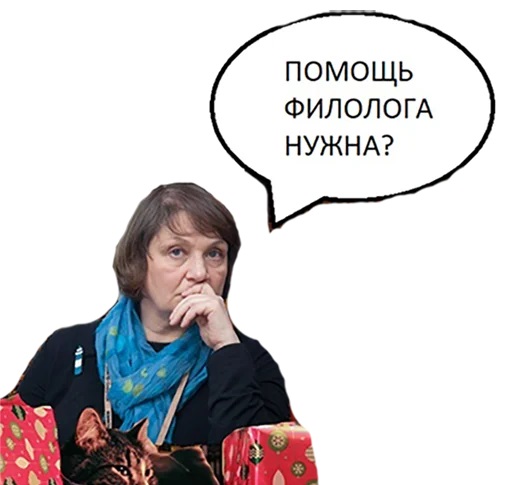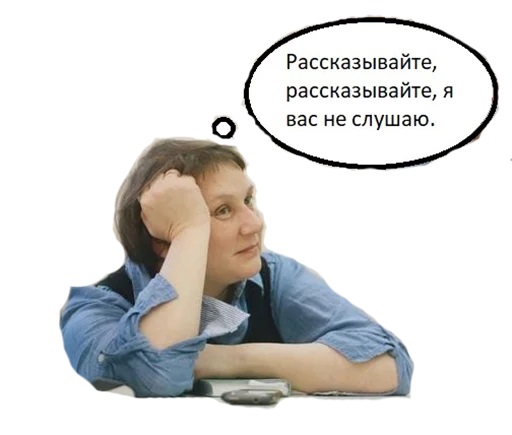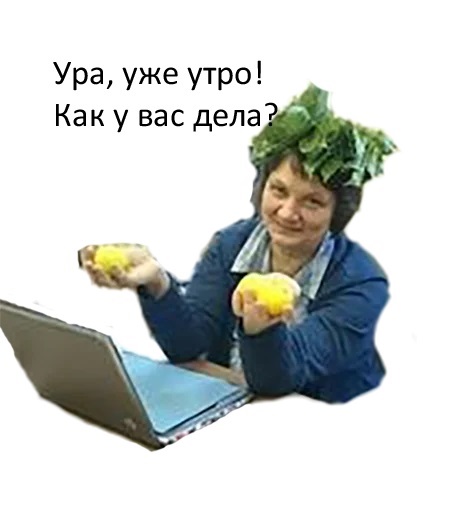Интервью с административным директором фонда AdVita – часть проекта Агентства социальной информации и Благотворительного фонда В. Потанина. «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал кроссмедийный, выходит в партнерстве с журналом «Русский репортер» и порталом «Вакансии для хороших людей».
«Стало понятно, что нужно что-то делать»
Елена, вы – литературовед, ученица Юрия Лотмана. Как так получилось, что вместо того чтобы заниматься наукой, вы пришли в благотворительность?
Как и большинство руководителей этой итерации, я в благотворительность попала совершенно случайно. Практически все мы пришли в конце 90-х – начале 2000-х как волонтеры. Первую зарплату в фонде я получила в 2014-м году.
Мне кажется, только два пути в благотворительность и было. С одной стороны, начинали что-то делать люди, случайно столкнувшиеся с проблемой, вокруг них возникало сообщество, а потом эти стихийные сообщества как-то институализировались. А с другой – были пациенты и их родные, или приемные родители, или еще кто-то, кто попал в сложную ситуацию и обнаружил, что ничего нет и надо что-то строить.
Вы в фонде с самого начала его существования?
Нет, я пришла на третий год его официального существования. AdVita зарегистрирована в 2002 году. У Павла Гринберга, который создал фонд, от лейкоза погиб близкий человек, Женя Кантонистова. Это был 1999-й год. Пока он искал для нее помощь, познакомился со специалистами Института гематологии Первого медицинского университета. И уже после смерти Жени, когда стало понятно, что невозможно проводить трансплантацию костного мозга в России без благотворительной поддержки, Паша создал сначала сайт – это уже 2000 год, – и люди благодаря этому сайту могли обращаться за помощью. Через два года был зарегистрирован фонд.
Первые трансплантации костного мозга в России системно начал проводить Борис Владимирович Афанасьев со своей командой. Они, собственно, и создали Институт гематологии и клинику трансплантации костного мозга в Первом медицинском.
Сначала была надежда, что государство будет платить для своих граждан за поиск донора костного мозга в международном регистре, потому что своего регистра у России не было. Но государство решило, что поиск донора – это не лечение, а услуга. А раз по закону человеку оплачивается за границей только лечение, которое невозможно получить в стране (вы знали, что есть такой закон?), а никаких услуг в этом законе нет, за трансплантат мы платить из бюджета не будем. То, что без трансплантата невозможно делать трансплантацию, как-то в этих бюрократических уловках потерялось.
В общем, внезапно оказалось, что нужно где-то найти много денег, чтобы платить за зарубежные трансплантаты. И что если их не будет, то и трансплантаций не будет.
Конец 90-х – начало 2000-х – людей, у которых вот так запросто 15 тысяч евро в кармане лежит (и еще примерно 2 тысячи евро на доставку), в стране, мягко говоря, немного. Стало понятно, что, во-первых, нужен благотворительный фонд, а во-вторых, нужно что-то делать, чтобы в России появился регистр доноров костного мозга.
В мае 2000 года была проведена первая в России акция по привлечению потенциальных доноров костного мозга. Она была организована как раз Борисом Владимировичем Афанасьевым и Институтом гематологии. В основном, конечно, участвовали студенты и медики.
Для этой акции было придумано латинское название Ad salutem vitae – «Ради спасения жизни». Это, на самом деле, строчка из средневековой латинской литургической молитвы: «ad salutem aeternam vitae», в которой речь идет о благодарности Богу за спасение и жизнь вечную.
Латынь, вероятно, была выбрана как международный язык врачей: в 1990-е российским детским онкологам и гематологам пришлось срочно догонять своих зарубежных коллег, потому что в Советском Союзе детские лейкозы лечили очень плохо, и детей выживало в три раза меньше, чем в Европе. И гематологи и онкологи всего мира помогали нашим специалистам с обучением, лекарствами, иногда с питанием для пациентов, была даже создана российская общественная организация «Гематологи мира – детям».
А логотип для первой докторской акции был создан дизайнером Сергеем Ушаном – отцом девочки, спасти которую, к несчастью, не удалось. На этом логотипе соединяются красный крест (потому что речь идет о медицине), колокол (потому что нужно было позвать людей) и капелька крови (потому что речь шла о донорстве).
И когда 1 апреля 2002 года был зарегистрирован фонд (его учредителями были Павел Гринберг и сотрудники Института гематологии), взяли логотип этой донорской акции и название тоже, только оно сократилось немножко. AdVita — «Ради жизни» – так мы переводим его на русский язык. А я пришла в фонд в конце мая 2005 года.

Между «продам жигули» и «куплю пылесос»
У вас тоже была личная история?
Это была случайность. Я увидела объявление в Живом Журнале про ребенка, которому нужны ботинки и еда, потому что они с мамой застряли в больнице и у них материальные сложности. Я подумала: еды-то я могу же купить, да? И когда я приехала, узнала, что, кроме еды и ботинок, нужны 15 тысяч евро на поиски донора. И непонятно было, как там они из своего стерильного бокса будут их искать… Ну, я не собиралась заниматься этим всю жизнь, просто конкретно на этого ребенка собирала деньги и по большей части собрала: по бывшим выпускникам своим, по друзьям.
Но пока я к этому ребенку ходила, во-первых, познакомилась с другими мамочками, во-вторых, – с врачами и поняла, что там… ничего нет. И тогда же я познакомилась с Пашей Гринбергом, который уже был директором фонда AdVita, состоявшим на тот момент из него самого и некоторого количества волонтеров. И я поняла: ну, я тоже могу что-то поделать.
И что стали поделывать поначалу?
Да все то же самое, что и сейчас – искать деньги. Правда, не только. Тогда очень нужны были доноры крови, их не хватало катастрофически. Сначала мы обзванивали друзей и знакомых, потом возник донорский телефон, номер для которого (да и сам телефон тоже) мы выпросили у «Дельта Телекома» бесплатно. Он, кстати, до сих пор наш – этот номер.
Мы дежурили на этом телефоне, потому что ты сначала клеишь объявления на заборе или на остановке, а дальше начинаются вопросы: а когда приходить? А куда? А как готовиться? А с пирсингом можно? И на эти вопросы нужно отвечать. А мамы не могли отвечать. Мама сидит с ребенком, у него химиотерапия и ему плохо. И в отделении тоже не было ресурсов на это.
Вот мы с Пашей и дежурили на телефоне по очереди, пока не спеклись, потому что это было практически круглосуточно: люди звонили ровно в тот момент, когда видели объявление, а это могла быть ночь, раннее утро, воскресенье, в общем, когда угодно. Мы попросили у одного из наших жертвователей немного денег и начали доплачивать волонтеру, который отвечал на звонки, потом уже появился настоящий полноценный диспетчер.
И еще мы придумывали, куда давать объявления, и упрашивали редакции газет брать их бесплатно. Помните, в начале 2000-х было много очень газет, которые состояли из объявлений – «Из рук в руки», «ЭкстраБалт», еще какие-то.
Да-да-да.
И между «продам жигули» и «куплю пылесос» был наш бесплатный модуль – нас на свободные места пихали в любой раздел – что в такой-то больничке срочно нужна первая отрицательная, пожалуйста, звоните по такому-то телефону.
Никакие газеты тогда еще не писали об этом, и телевизоры на эту тему тоже не разговаривали, им это было неинтересно. Первая наша удача была радио – нас начали пускать христианские радиостанции: «Град Петров», «Мария». Оттуда взялись несколько приходов, которые распространяли наши донорские объявления, вешали их на дверь прихода или клали под стекло туда, где записочки пишут. На Форуме питерских родителей была донорская тема, это очень помогало. На форуме дьякона Кураева опять же.
Все это очень много сил отнимало. Но поиски денег и лекарств отнимали времени еще больше. Рассказы о подопечных мы точно так же пытались публиковать в бесплатных газетах, и в тех же разделах помощи на форумах, где они были, и в Живом Журнале.
До расклейки объявлений по заборам дело не доходило, но вкладыши в бесплатные газеты, которые рассовывались по почтовым ящикам, мы делали и на входах в кинотеатры листовки раздавали.

Фонд рос, как дерево
Можно сказать, поначалу вы занимались просто сразу всем.
Ну да, естественно, всем.
Потом как-то все стало дифференцироваться?
Да, росли, объем помощи рос, пожертвования росли. В 2008 году появился первый штатный сотрудник – Маша Славянская, которая очень много сделала, чтобы у фонда появилось много прекрасных волонтеров, и в больницах она просто жила, не вылезая. И в том же году, благодаря помощи одного из наших жертвователей, появился постоянный бухгалтер – до этого мы раз в квартал отдавали наши бумажки, как теперь бы сказали, на аутсорс, в авоське передавали ворох такой бухгалтеру: платежки, расписки, и она делала нам отчеты.
Он рос, как дерево, фонд AdVita, естественным путем. Как только мы понимали, что вот этим нужно тоже заниматься, постепенно разбирались, как и что, и в какой-то момент решались на сотрудника. Мы очень медленно росли, потихонечку прибавлялись один-два человека в два года. Правда, когда мы стали создавать службы помощи, сразу появилось много новых сотрудников. Понятное дело, что сначала деньги нужно было на них найти.
Сколько их?
Сейчас четыре: служба сопровождения подопечных, донорская, волонтерская и консультативная служба по паллиативной помощи.
В службе сопровождения подопечных работают координаторы, консультанты и психологи. Когда человек приходит в фонд, он, как правило, в очень тяжелом состоянии и пока не понимает, куда бежать и что делать. Его нужно выслушать, успокоить, разобраться, какую помощь мы можем оказать, все объяснить, ответить на вопросы, принять документы, посмотреть, хватает ли их, заключить договор о помощи. Дальше с ним на связи все время один из наших психологов, которые время от времени звонят, спрашивают, как дела – именно из этих бесед берутся новости на страничках пациентов на сайте.
Человек должен знать, что он может позвонить в фонд по любому вопросу.
Например, ему нужно получить лекарство от государства, или мамочке, которая сидит с больным ребенком, а муж у нее в бегах, нужно как-то добиться алиментов, а сил заниматься всем этим у нее нет. И так далее и тому подобное. У человека, столкнувшегося с болезнью, возникает огромное количество задач и вопросов. Ему иногда в магазин за едой не дойти… Это как снежный ком.
По сути дела, мы все в нашей стране менеджеры своего собственного лечения.
Много вы знаете принимающих организаций, в которые можно прийти и сказать: ребята, у меня долг по квартплате, потому что я восемь месяцев сижу с больным ребенком и не работаю, а больничного по уходу не хватает даже на еду… Я не знаю, как мне доехать до места лечения, как мне оформить бесплатный билет, мне с Алтая через всю страну надо… Мне негде жить в вашем Петербурге, и денег снять жилье нет… У меня нет возможности памперсы покупать, потому что от ребенка не отойти, а в больнице не выдается… Мне не добраться из аэропорта, я колясочник…
Вот служба сопровождения подопечных нужна для этого: вы звоните туда с любым вопросом, дальше их задача – подключить ресурсы фонда, а если есть возможность, и государства, чтобы вопрос был решен.

Донорская служба возникла первой, я уже рассказывала о ней. И это, естественно, не только человек, который отвечает на звонки доноров и больниц. Нужно вести донорскую базу, потому что у нас более 5 тысяч человек там, нужно делать донорские рассылки и обзванивать, если, например, какая-то редкая группа экстренно нужна, нужно принимать заявки от больниц и корпоративных жертвователей, которые хотят проводить донорские дни.
К сожалению, у нас сейчас в этой службе только один человек, а было два: еще один сотрудник занимался продвижением донорства костного мозга и невероятно много для этого сделал. Но сейчас у нас пока нет ресурса для привлечения новых доноров костного мозга, потому что в связи с падением пожертвований не хватает денег на типирование образцов. Надеюсь, мы сможем эту ситуацию изменить. Ну, или государство, наконец, этим займется.
Потом у нас появилась волонтерская служба: это и дежурство на мероприятиях, и больничное волонтерство, и pro bono – от дизайнеров и юристов до аналитиков и рекламщиков, и автоволонтеры, и курьеры. Это колоссальная помощь и невероятная экономия денег жертвователей – представляете, если бы мы платили за это все! Но это же огромный объем ежедневной работы, и для нее нужны координаторы. Сейчас появилось еще очень важное направление – волонтерский фандрайзинг. В общем, без волонтерской службы мы как без рук.
Последней появилась консультативная служба по паллиативной помощи. Это важная часть нашей жизни, я мечтала о ней давно. И, конечно, то, что три года назад удалось получить грант Фонда президентских грантов и запустить ее – большое счастье.
Есть горячая линия, круглосуточный телефон, который работает всегда, без ночей и выходных, и за первый год работы службы на нее поступило почти восемь с половиной тысяч звонков от необезболенных пациентов и их отчаявшихся родственников.
Конечно, мы понимаем, что это капля в море, 2% от потребности, по нашим оценкам, паллиативная помощь в Петербурге нужна примерно 40 тысячам человек, а мы помогли 833 семьям. Но 833 – совершенно точно лучше, чем ноль. Мы очень надеемся, что город, который принял программу развития паллиативной помощи, что-то все-таки сделает, чтобы обеспечить нормальную жизнь паллиативным пациентам и их близким. Но пока наша служба такая в городе одна.

Почему вы решили, что эти службы нужно создавать именно при фонде?
Потому что фонд – не только счет. Фонд – это инфраструктура, которая превращает собранные деньги в эффективную помощь. Деньги на счету – это еще не лекарство в капельнице, не доставка трансплантата к нужному часу, не экстренное переливание крови, не жилье, не сиделки, не психологи, не медицинские консультанты, и так далее.
Фонд сейчас и делится на две большие части: зарабатывающие отделы, которые ищут деньги, сопровождают жертвователей, работают над публикациями, и службы, которые оказывают помощь.
Сколько в фонде сейчас человек?
Сорок два, из которых один на полставки и один в декрете. Примерно пополам делятся между службами помощи и остальными отделами.
«Читать Пушкина с детьми — лучший отдых»
Скажите, как вам удается сочетать эту работу – загруженность же безумная у директора фонда, – с тем, что вы продолжаете преподавать? Насколько я знаю, вы никогда этого не прекращали.
Я не прекращала, но очень сократилась – в школе у меня сейчас шесть часов. Это два класса в одной параллели по три часа литературы, три подготовки в неделю, и уроки разнесены так, чтобы не очень влиять на рабочий день, например, на субботу. Это как хобби. Кто-то на байдарках сплавляется, кто-то языки учит, кто-то занимается декупажем, а я читаю книжки с детьми. По объему это не очень большая нагрузка, тем более, слушайте, я в школе с 87-го года – господи, сколько это лет… (смеется)
Тридцать три.
Вот. Я, конечно, ко многим урокам уже просто не готовлюсь.
То есть это отдушина такая.
Да, это история про реабилитацию психологическую и человеческую. Ты читаешь с утра до ночи отчеты, счета, истории болезни, ходатайства от клиник и переводишь все это дело с медицинского на русский – потому что мне нужно объяснить жертвователю, за что же он платит, когда видит счет на олигонуклеотиды или брентуксимаб ведотин. Это, в основном, и есть моя работа – трансляция знания и отладка понимания между жертвователями, пациентами и врачами.
Потому что врачи пишут потенциальным жертвователям примерно так: «данная методика позволяет определить ингибиторы иммунных контрольных точек, биспецифические антитела, иммуноконъюгаты и клетки с химерным антигенным рецептором (CAR-T)». А жертвователи от них, естественно, требуют оценки по критериям Outputs, Outcomes, Impact. И обеим сторонам нужен переводчик – вот я он и есть. Ну, и еще ведь огромное количество организационных всяких штук…

Мне, филологу, тяжело жить только в этих словах, хотя я их выучила и страшно уважаю. В общем, читать Пушкина с детьми – лучший отдых и то, что меня по-настоящему радует.
Больше всего на свете люблю читать, а потом с кем-нибудь делиться тем, что сообразила или почувствовала, пока читала, и послушать, что с другими людьми во время этой книжки произошло.
Дети тут идеальная аудитория: у них всегда есть идеи, они любопытные и наблюдательные, и даже если я читала этот текст сто пятьдесят тысяч раз, каждый выпуск обязательно что-то новенькое найдет. И это, конечно, огромное удовольствие.
А вы какой темой занимались как филолог?
Ну, слушайте, у меня же не случилось научной карьеры: вместо аспирантуры я родила ребеночка. Я страшно боялась Юрию Михайловичу [Лотману] сообщить, что вместо экзаменов в аспирантуру в сентябре я в августе рожаю. То есть вела себя как подросток, конечно. И тут, значит, в июле – я на сносях – встречаю его в Публичке. И он меня видит и первым делом говорит: «Я Вам этого никогда не прощу!» Мы потом, конечно, стали смеяться, понятное дело. Но его первая реакция, так лицо вытягивается…
Потом предполагалось, что, когда ребенок подрастет чуток, я поступлю в заочную аспирантуру – про очную, конечно, речи уже не шло. Но Юрий Михайлович умер, и ничего не вышло.
Диплом у меня был по Дельвигу. Было несколько научных публикаций в разных изданиях, например, хорошая статья получилась про героя-партизана Фигнера, до сих пор мне нравится. Потом для разных издательств делала комментарии к разным текстам – к «Горю от ума», к «Сентиментальному путешествию» Стерна, очень мною любимые к «Истории одного города», которые мы писали с мужем, Алексеем Викторовичем Востриковым, он тоже филолог. Спасибо Любе Аркус, которая научила меня писать про кино и постоянно публиковала в журнале «Сеанс» – сейчас у меня уже, конечно, совсем времени и сил на это нет.
Если говорить о том, что я люблю делать как филолог, это, конечно, реальный комментарий. Я очень люблю, когда текст становится понятным.
У нас в гимназии есть проект «Дом читателя». Это медленное чтение – методика, стянутая нами у «Эшколота», – когда ты по слову, по строчке читаешь и комментируешь какой-то текст. И уже… господи, уже больше десяти лет у нас проходят эти медленные чтения, – я, конечно, не отказываю себе в удовольствии какой-нибудь текст разобрать.
В этом году гимназические чтения проходили, естественно, в зуме, и я делала комментарий к «Фаталисту» Лермонтова. Это довольно старая работа, кусочек моего комментария даже вошел в пушкинодомский четырехтомник Лермонтова, выпущенный в 2014 году к двухсотлетию. В общем, главная задача комментатора – сделать текст понятным – мне очень импонирует.
То, чем вы занимаетесь в фонде, это практически то же самое: делать текст понятным, причем понятным и для пациентов, и для сотрудников, и для врачей.
Моя гениальная сотрудница, руководитель отдела фандрайзинга Катя Буксина, сделала мне в этом году на день рождения подарок – стикеры для телеграмма из моих разных фотографий с разными моими словечками и репликами. В том числе с фразой: «Помощь филолога нужна?» Сотрудники именно так эту опцию и называют – когда нужно быстро и понятно сформулировать какую-то сложную штуку для кого-нибудь, кто не в теме.
Стикеры для телеграмма:
Да и вся работа, которая касается маршрутизации, когда человек обращается за помощью: сделать понятным ему, куда пойти, куда стучаться – в некотором смысле это тоже толкование текста.
Да, и это огромный функционал благотворительных фондов вообще – помогать экспертизой всем, кто обращается.
Фундамент благотворительности — разумный эгоизм
Вы знаете, есть одна вещь, которая меня очень задела из того, что вы говорили когда-то в интервью. Что приходят люди, которые считают, что они не достойны помощи. «Вот кто я такой, чтобы мне могли помогать»? На мой взгляд, совершенно чудовищная, страшная вещь. В этом смысле что-то меняется?
Конечно, меняется. Это же все развивалось на наших глазах. Сначала помогали кому? Больным детям, и котикам, и собачкам. Тем, кто вызывал естественное умиление, эмпатию и почти рефлекторное желание защитить. А посмотрите, что сейчас! По сути дела, со всеми группами уязвимых людей, на которых раньше попробуй собери, — например, на восстановление документов для девушки без гражданства, попавшей в нелегальный бордель, и на ее же лечение от туберкулеза, – в 90-е это было почти нереально… Так вот, со всеми группами уязвимых людей, которые раньше были жестко стигматизированы, теперь работают десятки благотворительных организаций.

И вот что очень важно: если организация последовательна и не боится, что на изменения может жизни не хватить, ее деятельность обязательно принесет плоды, и через десять-двадцать-тридцать лет станет понятно, что она действительно что-то изменила. «Ночлежка», к примеру, для Петербурга сделала то, что в Петербурге давным-давно не говорят «бомж», а говорят «бездомный».
«Ночлежка» всех горожан выучила, что бездомные имеют те же права, что на улице может оказаться любой, что 80% – не опустившиеся безответственные алкоголики (которые, отдельно скажу, тоже далеко не всегда «сами виноваты»), а люди, которых обманули. Например, выпускники детских домов, у которых обманом выманили квартиры.
Бездомность – это трагедия, с которой может столкнуться любой, буквально, по пословице «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Вот на это «Ночлежка» потратила тридцать лет и еще столько же потратит, наверное, пока уже всем-всем не объяснит. И так далее, и тому подобное. У нас ведь очень иерархичное сознание, люди в нем на разных ступеньках лесенки расположены, и до равенства — как до Луны. И оно… все говорят, что советское, а мне кажется, что по сути своей феодальное.
Абсолютно согласна, именно феодальное.
Оно гораздо глубже, чем советское. Когда человека оценивают в зависимости от его статуса, места в иерархии, когда есть представление, что один человек имеет больше прав, чем другой просто по факту его занимаемой должности, причин тут обычно изобретается миллион. И вот эта иерархичность нашего отношения к людям постепенно начинает трещать по швам.
Такая простая мысль, что все люди равны от рождения – то, что просветители говорили в XVII – XVIII веках, – и что человеку нужно помогать не потому, что он симпатичный, и не потому, что он несчастный, а потому, что ему нужна помощь и он без тебя не справится, постепенно перестает казаться странной и становится нормой.
Когда вокруг самых бесправных, самых незащищенных людей – заключенных, мигрантов, жителей психоневрологических интернатов, людей, переживших насилие, до которых раньше благотворительность не дотягивалась, – появляются организации, которые системно, постоянно помогают им, вытаскивают эти темы в общую повестку, это значит, что у нас все идет в нужную сторону.
Гражданское общество – это про достоинство каждого человека. И если мы это достоинство не уважаем, значит, мы сами, извините, не сильно достойные люди.
Не знаю, сколько это все времени займет и, может, мы такая тоненькая (смеется), размером с микрон, пленочка на поверхности моря разливанного людей, для которых это пока не так… Но на пути от прямого людоедства к всеобщему равенству мы сейчас ближе к всеобщему равенству, факт. Считай, еще недавно человека четвертовали и на дыбу отправляли за то, что у него борода не бритая. И уж совсем недавно в лагерях миллионы людей гноили за то, что недостаточно сильно восхищались родиной. Так что прогресс налицо.

И вот еще какая важная вещь про фундамент для благотворительности.
По большому счету, мы помогаем друг другу не потому, что такие добрые, а потому, что такие умные. То есть у нас хватает ума понять, что иногда помочь – это чтобы твоя собственная жизнь стала легче. Прямо разумный эгоизм по Чернышевскому.
Например, как я жертвовала во время локдауна? Первый раз в жизни подписалась на одно издательство независимое и на книжный магазин. Я почему это сделала? Потому что представила себе, что они закроются – и издательство, и магазин, а мне не хочется: они мне нужны, как же я без книжек?
Точно так же я подписываюсь на рекурренты для какого-то фонда не только тогда, когда понимаю, что конкретно эта организация очень нуждается. Но и тогда, когда она мне нужна, чтобы у меня было моральное право отправить туда человека за помощью. Потому что любой сотрудник благотворительного фонда получает бесконечное количество просьб о помощи безотносительно специализации его организации, со всем подряд. И спасибо коллегам, что они такие разные и почти всегда есть, кто подхватит то, что ты сам не можешь.
Когда началось падение доходов – а с конца 2014 года мы видим, что люди, которые приезжают, все беднее, беднее, беднее, а сейчас-то тем более – у нас появились задачи, которыми мы особо никогда не занимались. Например, поисками еды или одежды, а то сейчас некоторые без зимних ботинок приезжают, как в 90-е.
И мы рады, что в Петербурге есть, например, «Теплый дом» или сеть магазинов «Спасибо», которые могут помочь с вещами, если пациент раздет и разут. И так далее и тому подобное. Наши пожертвования – это эгоистический, повторюсь, способ сделать мир поудобнее и для нас лично. Чтобы появилась поддерживающая система, куда ты можешь обратиться, если что-то случится с тобой, с твоими друзьями или случайно попавшимся тебе на пути человеком, чтобы он не торчал занозой у тебя в голове, если ты мимо пройдешь.

Я посмотрела фотографии сотрудников фонда. В основном девочки?
Ой, да как у всех (смеется). У нас Паша – директор и Леша – курьер (и это важно, потому что он все время что-то тяжелое таскает и перевозит). В консультативной службе медицинские специалисты время от времени — мальчики. А так – девочки, да. Хотя я вижу, что все больше и больше мужчин в благотворительности, постепенно в сознании эта сфера перемещается из раздела «собес» в раздел «отрасль экономики», например.
Но зарплаты в секторе все-таки… не очень большие, и мы тут с бизнесом конкурировать пока не можем. Поэтому если у человека семья и жена сидит с детьми и пока работать не может, то он просто из-за зарплаты к нам не пойдет… (вздыхает) Кстати, женщин, которые одни своих детей содержат, наши зарплаты не смущают, и это отдельный разговор, хорошо ли это. Но жертвователи не все готовы давать деньги на зарплаты, представление о том, что помогать – это профессия, пока еще не распространилось настолько, чтобы мы могли зарплаты людям повышать, хотя они торчат на работе с утра до ночи и подрабатывать не могут.
У благотворительности преимущественно женское лицо по-прежнему.
Может быть, это не только инерция «собеса» и не только зарплаты.
Может быть, у женщин просто физиологически организм более адаптабельный не к пиковым, а к длительным нагрузкам.
Ну и социальные стереотипы: мужчина должен все время якобы демонстрировать, что он страшно сильный, и у них на обслуживание этой концепции уходит так много сил, что на терпеливую работу в ситуации, которая постоянно острая, уже не остается.
Это да.
Кстати, это видно по тому, как пациенты переносят длительную химиотерапию. Лечение от рака годами может длиться, и мужчины часто ломаются быстрее, чем женщины. Собственно, то, что мужчина должен быть любой ценой сильным, а позиция слабости для них травматична, это тоже феодализм. Поэтому на него постоянно давит: мол, семья осталась без кормильца, я должен угля на гора давать, а не на койке лежать, вот это все. Тетеньке в этом смысле попроще – от нее обществом угля на гора не требуется, хотя по факту она, может быть, и есть главный угледобытчик в семье.
В 90-е годы, когда мы занимались всем подряд, моя подруга, с которой мы вместе в школе учились, днем работала юрисконсультом в банке, а вечером в этом же банке мыла полы. Потому что ей не хватало денег, у нее мама умерла и нужно было брата растить. В этом смысле тетенькам было проще с работой, чем дяденькам, которым, чтобы в своем банке вечером полы мыть, нужно было через вот этот самый феодализм общественный и предрассудки перешагнуть. Сейчас это, слава богу, меняется, и надеюсь, что доживу до того времени, когда общественное мнение, кто как должен жить, от человека отстанет.
Разрешить себе быть счастливым
Вы как-то говорили, что многие люди считают, что они не достойны счастья. Человек не всегда разрешает себе быть счастливым – просто в каких-то житейских, бытовых сферах. У вас получается?
Получается. Ну, у меня вообще все хорошо. В том смысле, что все мои места работы прекрасные, и люди прекрасные. Притом что я, конечно, страшно устала и из директоров мне давно пора, что я и надеюсь в скором времени осуществить. Фонд сейчас на очень хорошем ходу, это особенно стало очевидно на фоне ковида. Ни на секунду мы не остановились, хотя было очень тяжело, и клиники наши, которым мы помогаем, ни на секунду не остановились. НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии полностью сохранил объем трансплантаций, понимаете?
Здорово.
И не было вспышек инфекции, хотя случаи в клинике были. И не было проблем с донорской кровью. Конечно, все процессы усложнились в разы. Той же консультативной службе по паллиативу пришлось действовать в условиях, когда на какой-то момент госпитализации в хосписы закрылись, а скорая помощь перестала колоть опиоиды, хотя казалось, что уж это-то мы отвоевали. Все, что раньше работало технологично, снова приходилось делать вручную. Но, повторюсь, что бы ни происходило, решение находилось. Я вообще очень горжусь, что получилась такая организация – фонд AdVita. Она… и человеческая, и технологичная одновременно. Это не очень часто бывает.
Нечасто бывает, это точно.
В ней есть… теплота душевная и при этом понимание, что без технологий — никуда.
В общем, мне грех жаловаться. У меня живы родители, муж и сын – лучшие друзья, есть крыша над головой, средства к существованию, любимые люди, любимые работы. Я живу в городе Петербурге, что наполняет меня невероятным счастьем (смеется). Правда. Я же приехала сюда в 1981-м. И до сих пор не могу избавиться от чувства благодарности за то, что хожу по этим улицами и мостам и вижу то, что вижу. У меня есть филармония, Эрмитаж, Мариинка, БДТ и Новая сцена Александринки. Есть моя гимназия, в которой мне очень хорошо. Есть книжки, которые я могу читать.
И то, что я с волчанкой столько лет живу и по-прежнему еще трудоспособна… притом что, конечно, есть проблемы. Например, когда все начали всех лечить плаквенилом и у нас он из аптек исчез, а это же мой базовый препарат – пришлось добывать, в том числе в Израиле, опять же спасибо дорогим сотрудникам. Но главное, что я пока не на диализе, что силы позволяют работать и гулять по улицам, и, может быть, у меня еще есть на это время.
И пусть так и будет.
Да. Я абсолютно в этом смысле бабушка-оптимист (смеется).

***
«НКО-профи» — проект Агентства социальной информации и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект реализуется при поддержке Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Информационные партнеры — Forbes Woman, платформа Les.Media, «Новая газета», порталы «Афиша Daily», «Вакансии для хороших людей» (группы Facebook и «ВКонтакте»), Союз издателей ГИПП.
Подписывайтесь на телеграм-канал АСИ.