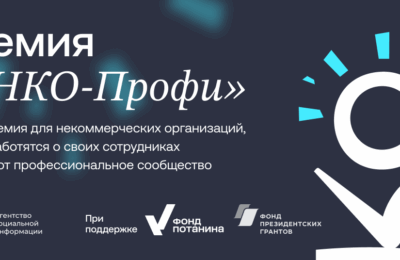Интервью с директором по развитию фонда «Гуманитарное действие» (организация внесена в реестр исполняющих функции иностранного агента в РФ) – часть проекта Агентства социальной информации и Благотворительного фонда Владимира Потанина. «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал кроссмедийный, выходит в партнерстве с порталом «Вакансии для хороших людей».
У вас был большой опыт зависимости. Считают, что причины такой уязвимости кроются в детстве. Расскажите, каким вы были ребенком и подростком.
Я рос достаточно застенчивым ребенком, друзей у меня было мало. Мой отец пошел служить после института, и мы начали вместе с ним переезжать из региона в регион. Мне очень хорошо запомнился остров в Белом море, на котором мы прожили несколько лет. Мы были семьей офицера, но все равно жили в холодном общежитии, с тараканами. Зато — северное сияние, замерзшее море, армейская жизнь. На ребенка это производило сильное впечатление.
Поэтому, когда в 16 лет меня не взяли в армию из-за плохого зрения, я сильно расстроился: мне казалось, что это подтверждение моей негодности, неполноценности.
Я часто «уходил» в книги, мне нравились персонажи вроде Владимира Ильича Ленина. В голове сформировался образ идеального человека — правильного во всех делах и поступках.

Но я этому образу не всегда соответствовал. В какой-то момент обстановка в семье стала тяжелой из-за алкоголя. И хотя, к счастью, проблемы потом решились, я понимаю, что это могло повлиять на то, что я сам впоследствии начал употреблять сначала алкоголь, потом марихуану. А потом перешел на инъекционные наркотики.
Если в семье вы замечали какие-то проблемы, связанные с алкоголем, то почему у вас не возникало чувство отторжения к нему?
Думаю, я не осознавал до конца, чем именно эти проблемы были вызваны. Алкоголь мне запомнился как такая точка входа в компанию людей, [на которых мне хотелось быть похожим]. Ребята были физически развиты, выглядели старше своих лет. Вот и мне очень хотелось к ним приобщиться, и мы проводили вместе время на школьных дискотеках или просто в парадных по вечерам, распивая спиртное.
Эта компания была для вас друзьями?
У нас могли быть какие-то стычки, но в целом не было места буллингу, например, и я вспоминаю эту компанию как достаточно безопасное место. Мы обсуждали музыку, фильмы. (Алексей Лахов и редакция АСИ предупреждают, что ощущение «безопасного места» объясняет, но не оправдывает употребление наркотиков и алкоголя в компаниях. Наркопотребление не дает преимуществ в поиске друзей. — Прим. АСИ.)
В начале 90-х мой отец стал моряком дальнего плавания и привез видеомагнитофон. В фильмы я нырял, как и в книги. Одним из любимых были «Прирожденные убийцы». Меня завораживал визуальный ряд, саундтрек — и в целом это кино сильно подпитывало мою внутреннюю подростковую энергию, которой я всё никак не мог найти выход. Возможно, я подавлял ее в том числе с помощью алкоголя или марихуаны.
Я помню, как один раз мы ходили с друзьями поздно вечером по району, сворачивали зеркала у машин и попались. Мы были нетрезвы, и нас доставили в опорный пункт милиции, на меня завели дело. Это было первое взаимодействие с правоохранительными органами.
Я [ошибочно] чувствовал себя таким интересным персонажем! Я курил, выпивал, бывал в милиции, при этом был начитанный, насмотренный и хорошо знал английский.
У вас не было страха зависимости?
Времена были такие… Выходишь на улицу и часто встречаешь людей, продающих наркотики, кто-то может просить деньги на наркотики, кто-то сидит на лавочке — и ты понимаешь, что у человека галлюцинации. Конечно, я думал, что никогда не стану таким.
Но потом как будто совпало несколько факторов, которые убедили меня попробовать. В 1998 году я уже поступил в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет на «блатной» факультет — связи с общественностью. То, что я прошел даже с превышением проходного балла, добавляло мне значимости, и в тот период я как будто бы перестал чувствовать свои прежние барьеры.
Я помню, что шел домой к девушке, в которую был влюблен, и встретил во дворе своего бывшего одноклассника, он сказал: «Пойдем ко мне, у меня есть «винт» (инъекционный психостимулятор)». Я отказался, ведь меня ждала девушка. Но в тот день у нас с ней случились какие-то разногласия, и когда я, подавленный, возвращался домой, увидел своего одноклассника снова и на всё согласился.

Он превратил свою квартиру во что-то вроде притона, «варочную хату». Я подумал: «Ничего себе, в такой тусовке я еще не был». Стал захаживать на эту квартиру и спустя несколько недель понял, что втянулся. В итоге все заработанные деньги за лето на стройке были потрачены на наркотики.
Этому способствовало еще и то, что я как-то болезненно воспринимал обстановку в университете. Со мной на одном потоке учились ребята, которые до этого пожили в других странах: в США, в Великобритании. Я им завидовал и снова чувствовал себя неполноценным, а наркотики создавали иллюзию моей особенности. Мне нравилось напускать туману в вузе, например, рассказывая однокурсникам про стычки с полицией. Ну, как стычки? Они просто из раза в раз просили деньги за то, что ловили нас с наркотиками, и за взятку отпускали.
В какой момент этот флер необычной жизни развеялся и вы поняли, что у вас проблемы?
Наверное, это случилось спустя пару лет после начала употребления — события стали разворачиваться стремительно. Я пытался совмещать учебу в институте с работой, начал выносить какие-то вещи из дома, кольца закладывать. Меня отчислили с четвертого курса дневного отделения. Я помню, как за один год я восемь мест работы сменил.
Потом начал помогать людям доставать наркотики в обмен на часть дозы. В связи с этим судимость появилась тоже. Ну и поэтому как-то уже к 2005 году уже стало понятно.
Там же случился краткосрочный брак и развод потом. Последствия такой жизни было сложно не заметить. Но я, как зависимый человек, отрицал то, что мои проблемы — из-за наркотиков. Мне хотелось переложить вину на родителей, которые меня якобы неправильно воспитали или не дали мне того, что могли.
Вам пытались помочь близкие?
Отец отвез меня в городскую наркологическую больницу на консультацию, и я четко выложил сотруднику все свои проблемы. Он спросил: «Не хочешь ничего с этим сделать?» Я сказал: «Пока не хочу». Мне казалось, что всего-то нужно найти работу и снять квартиру, чтобы съехать от родителей и начать новую жизнь. Конечно, это были фантазии.
Употребление продолжалось, здоровье ухудшалось, внешний вид уже оставлял желать лучшего. Мне уже перестали доверять.
Даже наркотики никто не хотел брать через меня, потому что было несколько случаев, когда я просто брал у людей деньги и исчезал. Четко помню момент, когда ползал в кустах и собирал грязные шприцы и емкости [из-под аптечных препаратов от насморка], чтобы попытаться выжать из них хоть какие-то остатки наркотиков.
Помню, что в последний год употребления я практически никуда не выбирался дальше своего района: в основном от дома до дилера и обратно.
Вы узнали о том, что у вас гепатиты В и С, в «Синем автобусе» «Гуманитарного действия». Как вам запомнился тот контакт с сотрудниками фонда?
В автобус, который стоял недалеко от нашего дома и местной библиотеки, меня отвел сосед с верхнего этажа, с которым мы вместе употребляли. Насколько я помню, в автобусе работали врачи из [петербургской] больницы имени Боткина: у меня взяли кровь на анализы, со мной пообщался психолог. Никто не укорял меня в том, что я наркозависимый, не пытался вызвать у меня чувство вины. Меня подробно спросили, как именно я употребляю наркотики, и предупредили о рисках передачи ВИЧ-инфекции, гепатитов.
Вот такой обычный разговор с полезной информацией сподвиг меня вернуться в автобус за результатами анализов. Это на самом деле заставило прийти еще раз.
В 2000-х вы были знакомы с другими организациями, которые помогали людям, употребляющим наркотики? У вас был в голове какой-то план спасения?
Вот в том-то и дело, что нет. И ребята из моей компании тоже не понимали, какие варианты помощи существуют. Я знал, что есть районные наркологи. Родители однажды отвезли меня на прием в Психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова, врач сказал мне, что я ни в чем не виноват, и дал две таблетки, чтобы переждать ломку.

Несколько лет я ходил в «Синий автобус», чтобы получить чистые шприцы и сдать анализы — в обычных поликлиниках очень недружелюбно относились к людям со следами от инъекций на руках. В какой-то момент «Синий автобус» уехал на другую точку, и мы не смогли узнать его новые координаты. Реабилитационные центры казались какими-то таинственными местами, о которых мало что было известно.
Люди, с которыми вы употребляли, говорили когда-нибудь о своем желании бросить?
Мы постоянно пытались это сделать. Бывали ситуации вынужденного воздержания, когда не было денег и несколько дней или даже недель мы ничего не употребляли и «переламывались» дома. Но иногда мы друг другу обещали: «Всё, это в последний раз». А через пару дней встречались снова у дилера.
Помочь человеку избавиться от зависимости можно только в том случае, если он сам этого хочет? Какие факторы могут перевесить даже это желание?
Нужно быть готовым долго прилагать усилия, чтобы измениться. Когда я ездил на реабилитацию в первый раз, родители просто поставили меня перед выбором: либо я соглашаюсь на лечение, либо остаюсь на улице со всеми моими уже собранными вещами. Я был на реабилитации три недели и, когда «протрезвел», начал бунтовать. Мне показалось, что ничего нового я не получу, что я вообще умнее всех там — с неоконченным высшим образованием пиарщика и с хорошим английским.
Меня отпустили домой и дали мне понять, что больше ничем помочь не смогут. Думаю, я не смог пройти тогда реабилитации до конца, потому что делал это по принуждению.
Справедливости ради скажу, что тот опыт мне все-таки помог. Благодаря ему я стал чаще думать, что вылечиться — в моих силах. На реабилитации мы выполняли разные задания и рассказывали довольно неприятные вещи о себе, это придает мужества и уверенности. Через некоторое время после того, как я вернулся и стал употреблять наркотики снова, я решил сделать вторую попытку и опять пройти реабилитацию.
Во второй раз мне повезло, я попал на сильную реабилитацию в десятое отделение городской наркологической больницы, которое организовала Валентина Новикова, специалист с двадцатилетним стажем работы. Отделение работало по так называемой Миннесотской модели, которая опирается на психотерапевтические методики плюс программу «12 шагов» (программа существует с 1930-х годов, первоначально использовалась для лечения алкозависимости, позднее — для употребляющих наркотики).

После завершения программы у меня были еще небольшие срывы, но мне помогли группы взаимопомощи. Иногда я приходил туда, чтобы дождаться дилера — он жил неподалеку, но я все равно слушал, что говорят другие люди в кругу. Я чувствовал себя частью этой безопасной принимающей обстановки. И в результате с 2006 года я остаюсь чистым [не употребляю наркотики].
В какой момент вы начали помогать тем, кто тоже страдал от зависимости?
Одна из концепций программы «12 шагов» — это служение. Благодаря тому, что я знал английский, меня взяли в свою компанию ребята, которые переводили профессиональную литературу на русский язык. Я думаю, что это занятие стало значимым вкладом в фундамент моего выздоровления.
Потом я стал поддерживать людей на группах взаимопомощи, был среди волонтеров, которые ходили к заключенным или к чиновникам и рассказывали о программе. Нужны были люди, понимающие в коммуникации, — и я неплохо с этим справлялся.
В 2010 году, пять лет проработав в сфере зарубежной недвижимости, я уже принял четкое решение, что хочу помогать зависимым людям более осознанно и профессионально. Я узнал об общественной организации «Мастерская свободы», которая тогда делала совместный проект с прокуратурой. Меня это заинтересовало, и я стал помогать организации.
Чем занималась «Мастерская свободы»?
Проводила индивидуальные и групповые занятия для зависимых, сотрудничала с врачами-наркологами и помогала составлять реабилитационную программу. Мне это сильно нравилось!
Опять же, благодаря знанию английского языка, я мог работать на более глубоком уровне: читал и переводил различные руководства по зависимости. Эта информация позволяла мне помогать более профессионально.
Потом я перешел на работу в Ассоциацию «Е.В.А.», где познакомился с темой профилактики ВИЧ-инфекции и помощи ВИЧ-инфицированным женщинам. Все это было мощным рывком вперед для меня.
Какие из методик помощи, встретившиеся вам в западной литературе, по-настоящему вас впечатлили?
Меня в целом впечатляло разнообразие информации о методиках, которую на русском языке было днем с огнем не сыскать. Можно было прочитать, почему программы снижения вреда от употребления отлично работают, а можно было и найти опровержение этому. Можно было прочитать про мотивационное интервьюирование, когнитивно-поведенческую терапию, про 12 шагов и 7 навыков [«выздоравливающего алкоголика или наркомана»] — со всеми «за» и «против». У нас же о наркотиках и методах помощи говорили очень однобоко — либо плохо, либо никак.
Я видел изнутри разруху в нашей наркологической службе. Мне хорошо запомнилась пресс-конференция, где протестанты и православные всерьез спорили о том, чья молитва лучше помогает зависимым людям.
Религиозные деятели говорили, что у них эффективность реабилитации 80%. Но я-то знаю, что 80% они добились именно благодаря тому, что человек, прежде чем попасть в их реабилитационный центр, полгода должен был оставаться трезвым. И только после этого его брали. Странно, что у них не 100% была эффективность.
А как вы относились именно к программам снижения вреда?
Программы снижения вреда вдруг стали как персона нон грата. В начале 2000-го они очень активно поддерживались государством, но после 2008 года эта поддержка прекратилась. Это был переломный момент — как для России в целом, так и для программ снижения вреда в частности.
Думаю, в первую очередь это было связано с изменением внешней политики России: мы взяли курс на «укрепление государственного строя», чтобы противостоять влиянию извне. Я не вижу ничего плохого в том, что Россия отстаивает свое место в этом мире. Но все равно этими процессами управляют конкретные люди с разными интересами, установками и убеждениями. Тема ВИЧ-инфекции находится на стыке других довольно острых тем: половая жизнь человека, употребление наркотиков, что с одной стороны воспринимают как болезнь, а с другой — как получение удовольствия.
Много копий ломается вокруг темы ВИЧ, потому что ее по-прежнему воспринимают как «секс, наркотики, рок-н-ролл». Стереотипы мешают помогать наркозависимым, особенно если методы помощи придумали на Западе.
То есть если выдаешь чистый шприц, то как будто бы поощряешь потребление?
Да, такое было мнение. А если даешь молодому человеку презерватив — подталкиваешь его к половой распущенности. И дальше тебе предстоит просто делать выбор: либо все-таки раздавать чистые шприцы и постепенно решать проблему ВИЧ-инфекции в России, либо бояться делать так, как не принято, и остаться у разбитого корыта.
В какой момент вы перешли на работу в «Гуманитарное действие»?
В Питере не так много проектов, которые помогают наркопотребителям, и все друг друга знают. Еще в «Мастерской свободы» мы сотрудничали с «Гуманитарным действием» — делали совместные проекты, так и познакомились.
Я перешел к ним на работу в 2017 году. У меня много обязанностей, но тем интереснее. Я взаимодействую с государственными органами, изучаю последние исследования по нашей теме и обсуждаю с руководителями программ, как можно улучшить наши методики. А еще пытаюсь привлекать средства частных доноров на такую непопулярную тему, как наша.
«Гуманитарное действие» — одна из самых старых организаций, помогающих наркозависимым. В чем главная ценность вашего опыта для сообщества НКО, которые работают с проблемой наркопотребления?
«Гуманитарное действие» умудряется, несмотря на дискуссии об иностранных источниках финансирования, не только сохранять свою устойчивость, но и расти каждый год. Да, мы получаем деньги от других стран, но главное — сколько всего было сделано на эти средства в России. У нас три мобильных пункта профилактики, один из которых работает почти как мобильная клиника. Автобусы по тому функционалу, какой есть в нашем «Синем автобусе», в Европе нужно еще поискать, не только в России.
Также мы открыли низкопороговый медицинский центр, куда приходят подопечные «Ночлежки» и Благотворительной больницы. «Гуманитарное действие» хорошо делает свое дело и не «почивает на лаврах», а идет вперед — вот главная ценность, которая очень пригодится многим НКО.
Сейчас мы стараемся стать еще и грантодающей организацией. Недавно мы получили от Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией 10 млн долларов, которые в течение трех лет будут распределяться в пользу разных организаций в трех или четырех регионах России, занимающихся профилактикой ВИЧ среди разных ключевых групп.
Просить пожертвовать деньги на помощь наркозависимому человеку сложнее, чем на лечение ребенка с тяжелым заболеванием. И тем не менее, как вы выстраиваете фандрайзинг?
Сейчас мы обратились в компанию Charity Solutions, которая помогает нам составить фандрайзинговую стратегию. Мы бы хотели научиться привлекать больше частных и корпоративных жертвователей. Недавно я выиграл грант на обучение в Московской школе профессиональной филантропии. Круто понимать, что даже если ты занимаешься «непопулярной темой» и помогаешь подопечным, к которым далеко не каждый способен испытать сочувствие, ты всё равно можешь быть в поле зрения широкой аудитории. Надеюсь, что это обучение поможет нам стать более независимыми финансово.
С другой стороны, меня радуют изменения в обществе — люди чаще стали жертвовать деньги в правозащитные организации или фонды, помогающие уязвимым группам. Недавно Екатерина Шульман собрала на своем стриме 5 млн рублей в пользу «ОВД-инфо», «Медиазоны» и «Апологии протеста». «Ночлежка», у которой 60% финансирования — это частные пожертвования, тоже дает нам всем надежду.
На платформе «Нужна помощь» мы собрали уже 650 тысяч рублей. Перед Новым годом «Райффайзенбанк» нам пожертвовал почти 200 тыс. рублей — именно на профилактику ВИЧ-инфекции, на закупку налоксона — лекарства от передозировки.
А есть ли какие-то подходы к работе с жертвователями, которые уже не действуют?
Жалость, на мой взгляд, уже не работает. Мне близок более оптимистичный подход. Лучше объяснить жертвователю, что изменится, если наркопотребитель получит помощь, чем просто перечислять все его проблемы и слабости.
Еще важно донести до аудитории, что, помогая наркопотребителям, мы на самом деле влияем на качество жизни общества в целом. Если у нас есть средства, чтобы выпустить на линию мобильный флюорограф, значит, мы дадим шанс нашим подопечным провериться на туберкулез. Если мы обнаружим у кого-то туберкулез — мы сможем устроить человека в больницу и он не заразит окружающих. Для того же мы даем и чистые шприцы — чтобы подопечный не подхватил инфекцию или не инфицировал кого-то еще.
Когда люди выступают против заместительной терапии и программ снижения вреда, они, возможно, думают, что лучший толчок бросить наркотики — это ситуации на грани жизни и смерти, когда риск умереть или заразиться ВИЧ очень близок. А как это на самом деле?
Могу даже не раздумывая ответить, что так не работает.
Первое, что я делал после своих передозировок, — шел употреблять снова. Я мог использовать грязный шприц, прекрасно понимая, что рискую заразиться ВИЧ или гепатитами. Сколько бывает ситуаций, когда в компании всего один шприц на троих и никто при этом не знает о своем ВИЧ-статусе!
Фото: pixabay.com
Так что всё наоборот. Если человек приходит к нам в автобус за чистым шприцем, у нас появляется шанс с ним поговорить и предложить ему помощь. Наши специалисты смогли добиться того, что за последний год более 50% наших подопечных с ВИЧ среди активных наркопотребителей сохраняли приверженность антиретровирусной терапии. Это очень хорошие цифры.
А вы дежурите иногда в «Синем автобусе»?
Да, я удовольствием выхожу туда. Это наша первая точка контакта и знакомства с новыми подопечными. Мы ведем очень мягкий диалог с человеком, который к нам приходит.
Например, мы можем говорить так: «Сегодня дежурит психолог, не хочешь с ним пообщаться? Наш кейс-менеджер может сегодня отвести тебя в СПИД-центр, пойдешь? Ты долго не принимаешь терапию — может быть, сегодня начнешь?»
В одном из постов в «Фейсбуке» вы упомянули, что держите свой запас налоксона — препарата, который помогает при передозировках. А для каких случаев?
Если вдруг он он срочно понадобится кому-то из подопечных. Мы можем получить ночью звонок или сообщение от человека, который стал свидетелем передозировки своего друга, — мы едем выручать. Всегда остается вероятность, что ты встретишь кого-то, кому нужна срочная помощь, на улице или в парадной.
Если бы вы в парадной встретили человека, у которого произошла передозировка, вы бы рискнули вколоть ему налоксон?
Сначала я бы вызвал скорую и посмотрел на человека, приподнял бы ему веко. Если зрачок сужен, если у человека уже посинели губы и рядом валяется шприц, тогда, скорее всего, это именно передозировка. Без уверенности налоксон не нужно вкалывать, конечно. Об этом тоже правильно нужно рассказывать людям.

Насколько я понимаю, в команде «Гуманитарного действия» есть и другие люди с опытом наркозависимости. Это влияет на включенность в дело и на атмосферу в команде?
Да, таких людей в команде немало. Этим людям не всё равно — они знают проблему изнутри, они «были там». Они могут среди ночи сорваться и поехать вводить человеку тот же налоксон или помогать устраивать пациента в больницу.
Им важно показать нашим подопечным, что они не собираются от них отвернуться и не станут пренебрежительно разговаривать с человеком, у которого туберкулез и всё тело в язвах.
Но у этой вовлеченности могут быть и минусы. Например, когда мы обсуждаем, где будет останавливаться наш «Синий автобус», фонд заинтересован в том, чтобы успеть помочь максимальному числу людей. Если мы замечаем, что на точку за смену приходят всего несколько человек, это повод задуматься о том, чтобы переместиться в другой район. Наши сотрудники иногда возражают: «А вдруг мы в четвертый раз сюда не приедем, а нас здесь наконец будут ждать люди? Они останутся без нашей помощи?» Иногда, чтобы оставаться эффективными, приходится принимать более жесткие и непопулярные решения.
Как статус иностранного агента будет влиять на эффективность работы «Гуманитарного действия»?
Я думаю, это сильно повлияет на наши взаимоотношения с властью — скорее всего несколько раз подумают, прежде чем звать нас на какие-то государственные мероприятия, на обсуждение законопроектов, участие в рабочих группах. Этот статус имеет негативную коннотацию, и так как мы везде обязаны предупреждать людей, что мы иностранные агенты, вполне могу представить, что какие-то доноры передумают нам помогать.
Но в целом я надеюсь, что именно на полевом уровне — в работе со СПИД-центрами, с наркологическими больницами — ничего не изменится. Потому что когда приводишь человека, сильно нуждающегося в помощи, не важно, на чьи деньги эту помощь окажут.
Мы будем оспаривать наш статус в суде в любом случае — шансов победить мало, но они есть.
Насколько важны сегодня взаимоотношения с государством для более эффективного решения проблем, с которыми вы работаете?
Антинаркотическая стратегия в нашей стране не отвечает потребностям самих наркопотребителей, а ведь есть же такой лозунг «Ничего для нас без нас». Продолжается дискриминация со стороны медицинских работников: за пренебрежительное отношение к ВИЧ-инфицированному пациенту невозможно уволить. Мы бы хотели иметь доступ к поликлиникам, помогать врачам корректно работать с нашими подопечными.
Двери как будто бы открываются ненадолго, если НКО получает государственный грант, но как только его действие истекает, решения проблем опять притормаживаются — до нового гранта.
Сейчас везде декларируется принцип открытости — открытых данных, открытого правительства. Хочется, чтобы это и на решение социальных проблем распространялось. Партнерские отношения с государством давали бы куда больше результатов, чем вертикальные.
Как вы вообще себя чувствуете внутри НКО-сектора? Не было ли у вас мысли когда-нибудь оставить фонд и уйти на какую-то другую «обычную» работу?
Я регулярно задаю себе этот вопрос — проверяю свой внутренний уровень выгорания, усталости. И пока отвечаю «нет». Я вижу еще большой потенциал своего развития именно в НКО. Вроде бы я много книг прочитал, много мероприятий посетил и организовал, а все равно приезжаю в Школу филантропии в Москве и вижу, что мне еще расти и расти. Еще одна сфера, в которой мне было бы интересно развиваться, — социальное предпринимательство.
Оглядываясь на тот период, когда вы были в употреблении, как вы его оцениваете?
В то время я принес много страданий своим родителям, своей бывшей жене, девушке, с которой потом встречался, и друзьям, не употреблявшим наркотики. Я не знаю, честно говоря, удастся ли когда-нибудь возместить им ущерб. Только надеюсь, что все-таки человеческая психика достаточно пластична и что эти люди смогли пережить неприятные моменты или забыть их. Кому-то я очень старался возместить ущерб целенаправленно, предлагал свою помощь в каких-то вещах.
Но то время стало и трамплином для нынешней работы. Недавно в Школе филантропии я «питчил» перед Гором Нахапетяном и Дмитрием Ямпольским и вдруг понял, какой долгий путь я прошел. Это путь от человека, который ползал в кустах и собирал грязные шприцы, до человека, который вылечил гепатиты В и С, выступал на одной пресс-конференции с Элтоном Джоном и презентовал доклады в Госдуме.
Я пытаюсь донести до наркозависимых людей, что они даже не могут себе представить, как поменяется их жизнь, если они откажутся от наркотиков. И будет уже не так важно, что было в прошлом — сидел ли человек в тюрьме, подцепил ли он какие-то заболевания. Достаточно какого-то минимального навыка, чтобы дать себе зацепку и выйти на новый уровень жизни.

Я убежден, что такой уникальный навык есть у каждого человека: возможно, вы хорошо владеете английским, как и я, или у вас глубокий тембр голоса, или вы просто очень усидчивый. Это то, от чего можно оттолкнуться и за что можно держаться в чистой жизни.
Сейчас ваши родители вами гордятся?
Я не знаю! У нас теплые отношения, но склонность держать дистанцию от других людей, даже близких, по-прежнему для меня характерна, поэтому о своих чувствах я особо не говорю.
Правильно ли говорят, что человек, у которого был опыт наркозависимости, всегда должен держать в голове утверждение: «Бывших наркоманов не бывает»?
Есть несколько точек зрения на проблему зависимости и на то, как долго она с человеком остается. Я больше придерживаюсь такой точки зрения: человек, условно говоря, научился быть зависимым, а значит, при должной помощи и поддержке может и «переучиться» обратно.
Но каждое утро уже на протяжении 14 лет я произношу такую аффирмацию: «Только сегодня я останусь чистым». Я не хотел бы возвращаться к никотину, алкоголю и другим наркотическим веществам — и таким образом напоминаю себе о том, откуда пришел.
Фото: Светлана Булатова/АСИ
Я знаю много примеров, когда люди находили хорошую работу, строили крепкую семью именно благодаря группам взаимопомощи — то есть отчасти благодаря ситуации, в которой они оказались. И тем не менее, я думаю, что тезис «Бывших наркоманов не бывает» устарел, он может тянуть человека назад. Лучше бы говорить иначе: «Чувак, ты смог преодолеть свою зависимость! Представь, сколько еще всего ты сможешь теперь, — пробуй».