Материал подготовлен на основе отдельных выступлений, которые прошли во время круглого стола «Взаимодействие институтов общественной самоорганизации и системы государственного управления», состоявшегося на XXV Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.
Первые общественные объединения появились в России еще в XVIII веке. Как отмечает Анастасия Туманова, ведущий научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, Россия — уникальный пример, где именно государство стояло у основ развития общественных организаций.
Именно в то время Екатерина II подписала указ о том, что 15 гражданам позволено объединиться в Вольное экономическое общество (ВЭО). Устав организации тоже создавали при участии государства.
При этом общественные институции чаще всего возникали в тех сферах, где не хватало внимания властей. Например, благодаря филантропии начинает развиваться система общественного призрения. Общественные организации начинают охватывать науку, образование, здравоохранение и многие другие сферы.
После Февральской революции года сфера общественных институтов поменяется несколько раз.
«Иногда кажется, что мы ходим по спирали. Я вспоминаю 90-е годы, когда появились новые институты гражданского общества и как они инициировали диалог, а власть их не слышала. А потом наоборот: их стали приглашать, появились общественные советы. И от полного игнорирования власть пришла к сближению и тесной работе», — говорит Елена Тополева-Солдунова, директор Агентства социальной информации.
А как происходит сейчас?
Если смотреть на сектор ретроспективно, то поменялись не только его формы — поменялись и модели поведения людей. За последние 15 лет доверие к НКО стало выше: Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ фиксирует, что если в 2010 году только 35% опрошенных доверяли хотя бы одной НКО, то в 2024 году этот показатель составляет уже 56%. Это небыстрый, но постепенный рост.
«Мы с 2008 года фиксировали, что доля НКО, которые используют труд волонтеров, снижается. А в 2023 году она резко возросла», — отмечает Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.
Причин у этого может быть несколько. В частности, Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.рф», отмечает: государство само поддерживает гражданские инициативы. Например, президент утвердил национальную цель развития России — к 2030 году вовлечь 45% молодежи в общественную деятельность.
«Готова ли страна, к тому чтобы 20 миллионов молодых людей пришли в сферу? Мне кажется, нет. Потому что важно не только привлечь, но и удержать, чтобы люди раскрывали свой потенциал гражданского участия», — говорит Артем Метелев.
Оценивая в целом текущее состояние сектора, можно выделить плюсы и минусы. Из позитивного — готовность НКО к партнерству, внедрение разных цифровых инструментов участия, создание ресурсных центров, развитие законодательства по многим аспектам, появление новых мер поддержки.
Среди проблем — недоверие к сектору, нехватка профессиональных компетенций, дефицит кадров. Во многом государство не готово к конкуренции на рынке социальных услуг, хотя и внедряет систему социального заказа. Также нуждается в улучшении система мер поддержки — причем потребность кроется в системных изменениях.
«Мне кажется, есть системная проблема: сектор застыл с точки зрения своего объема, он не развивается. 371 тысяча сотрудников — это не сектор по объему, а как одна госкомпания. Но и создавать НКО — сложно и дорого. Слишком много барьеров: например, новый портал Минюста. Обещали удобство, а в итоге много мороки. Так нельзя», — продолжает руководитель экосистемы «Добро.рф».
Обратная сторона медали
Но эксперты уверены: все не так однозначно.
«Если мы говорим о том, что СО НКО — это результат самоорганизации граждан, логично, что должна быть почва для этого. В нашей стране традиционная почва самоорганизации — это проблемы. Люди объединяются, чтобы их решать. Возникает вопрос: а зачем нам 300 тысяч СО НКО вместо текущих 130 тысяч, которые есть на бумаге?» — рассуждает Ирина Мерсиянова.

Елена Иваницкая, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России, поддерживает: нельзя говорить, что СО НКО не развиваются.
Фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash
Эксперт отмечает: текущее состояние сектора можно назвать стабильностью. Тем более внутри есть сменяемость: часть организаций закрываются, часть — появляются.
«У нас есть Координационный совет по благотворительности при Министерстве экономического развития РФ, в который входят крупные фонды. Я вижу некоммерческий сектор на протяжении последних 15 лет, причем вижу предметно. Он вырос, и это точно», — говорит Елена Иваницкая.
Яркий пример удачного сотрудничества: в 2024 году требования к здоровью волонтеров в социальных и медицинских учреждениях решили изменить. Сначала их ужесточили, но после обсуждения в Госдуме с участием представителей Минздрава, Минэкономразвития, руководителей социальных учреждений, сотрудников НКО — удалось добиться упрощения.
Почему же кажется, что сектор стоит на одном месте?
«Как трактовать текущее состояние сектора — как стагнацию или стабильность — вопрос непростой. Но если смотреть результаты исследований Минэкономразвития или мониторинг Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, видно, что рост все же есть. Хотя и не такой бурный, как хотелось бы. И это про цифры, а не про нравственное влияние на общество», — говорит Елена Тополева-Солдунова.
Кроме того, цифры не отражают полной картины. Марина Михайлова, директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант», говорит: люди не хотят регистрировать НКО. Потому что «вход — рубль, выход — пятьдесят».
«При этом руководители НКО часто признают свой непрофессионализм, но они не успевают доучиваться тому, что они должны знать. А вы должны понимать, руководители НКО — это часто обычные люди, которые просто пришли помогать, а не управлять», — говорит Марина Михайлова.
Это подтверждают и данные мониторинга НИУ ВШЭ: респонденты из НКО чаще называют более значимыми факторами для устойчивости своей организации «энтузиазм» и «веру в правое дело», а не «качество менеджмента» или «диверсификацию ресурсов».
Но это не значит, что в секторе нет запроса на обучение и повышение своих компетенций.
«Мы спрашиваем: “Когда в сектор придут молодые и амбициозные?” Когда работа в структурах гражданского общества будет перспективной частью карьеры. Это надо пропагандировать», — говорит Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.
Местное самоуправление: как оно меняется
В 2025 году вносятся масштабные изменения в систему организации местного самоуправления в РФ. Одно из главных изменений — планируется переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления. Это система, при которой по всей России местное самоуправления будет осуществляться только в городских и муниципальных округах.
«Есть новые вызовы, которые требуют реагирования в контексте гражданского общества и третьего сектора», — говорит Екатерина Шугрина, профессор кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета.
В законе есть формулировка: «Местное самоуправление — признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма самоорганизации граждан в целях осуществления народом своей власти…».
«Теперь местное самоуправление не приближается к гражданскому обществу, а становится его частью — во всяком случае, в плане понятийного аппарата», — продолжает эксперт.
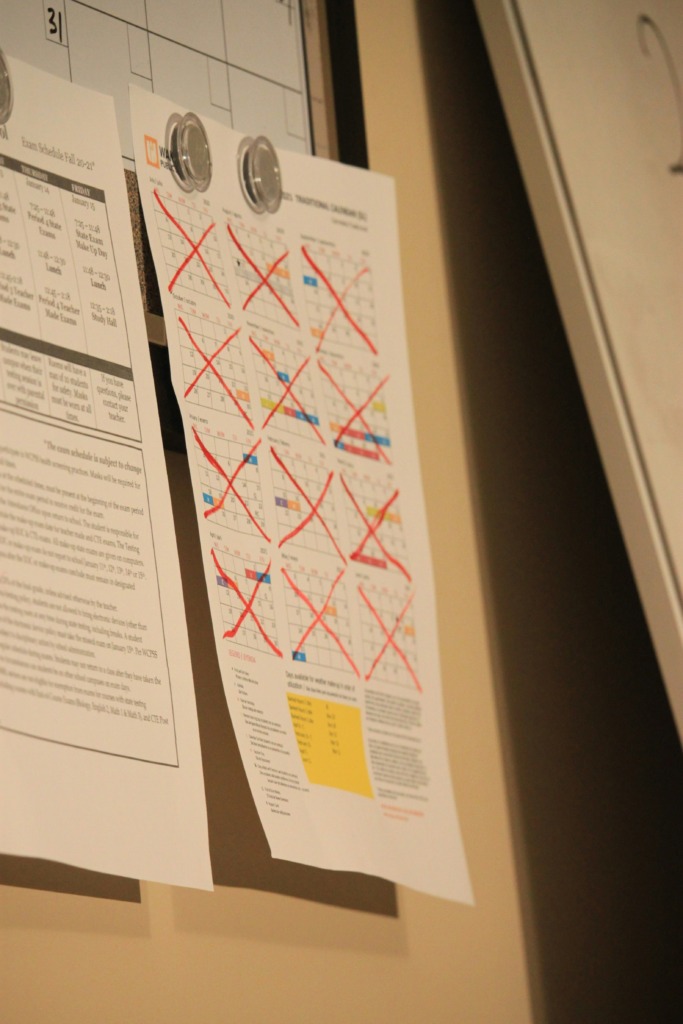
Еще один важный момент — переход на укрупнение муниципальных образований. Сейчас в России более 20 субъектов внедрили одноуровневую систему местного самоуправления. Это когда вместо отдельных администраций городских округов, районов и поселений создается единый орган, который решает все вопросы местного значения.
Фото: Jonathan Wang / Unsplash
Вместе с этим многие местные депутаты теряют свои мандаты. По оценке экспертов, в Кемеровской области, которая почти полностью стала одноуровневой, почти 1700 депутатов поселений прекратили свои полномочия.
«Вопрос: куда таких активных людей направлять? Хотелось бы, чтобы они не потерялись для своих территорий. Это люди, которые хотят и могут делать что-то для развития регионов. Многие из них уходят в органы ТОС, становятся сельскими старостами, входят в состав Общественных палат. Но фактически вместо органов действующей власти приоритет отдается негосударственной общественной деятельности. Главное — не терять этих людей», — говорит Екатерина Шугрина.
Гибкость и человекоцентричность: какую роль несут НКО
Как же сейчас оценивается участие НКО в жизни общества? Николай Слабжанин, исполнительный директор российского комитета «Детские деревни SOS», уверен: НКО ценятся государством за их человекоцентрический подход.
«Государство вынуждено постоянно искать новые ресурсы для решения вызовов. Обращение к человекоцентричности и вовлечение НКО в процессы планирования работы и реализации — это хороший и позитивный момент», — рассуждает эксперт.
Также на государственном уровне все чаще формулируется запрос на гибкость в решении проблем. Это то, в чем НКО хороши: государственные и муниципальные структуры не всегда успевают точечно реагировать на проблемы. А НКО не так подвержены формализму и могут помочь там, где государственной машине это дается сложнее.
Эта гибкость обусловлена тем, что многие организации выросли из инициативы людей на местах, которые хотят решить проблему и много с ней работали.
«На встречах с органами власти я люблю задавать вопрос: “Как государство видит роль НКО?” И если лет пять назад звучало, что НКО — это институты защиты прав определенных групп населений, то на одной из последних крупных конференций зал пришел к выводу, что НКО — это в первую очередь поставщики соцуслуг. Мне кажется, должен быть баланс», — заключает эксперт.
Тренды в секторе: чего ждать в ближайшие годы?
Дмитрий Поликанов, общественный и политический деятель, выделяет 10 трендов, которые, возможно, проявятся в будущем.
- Этап активных дискуссий вокруг целей устойчивого развития, появление новых акцентов и направлений.
- Актуализация проблемы тотального неравенства: разрыв между богатыми и бедными слоями населения будет все больше. Возможно, НКО будут работать над сглаживанием этого разрыва.
- Постепенно некоторые виды помощи НКО будут становиться нерелевантными. Вопрос: как НКО оставаться на плаву, когда проблемы решаются за счет искусственного интеллекта и механизации?
- Смещение внимания на запрос меньшинств. Постепенно проблемы крупных групп благополучателей будут решаться: например, в сфере помощи людям с инвалидностью появляются новые способы коммуникации, протезы и так далее. Фокус будет смещаться на небольшие и нетипичные группы, которым нельзя массово помочь.
- Сохраняется рост населения в определенных районах мира, и они будут задавать направления развития в будущем.
- Развитие добровольчества. Все больше людей и организаций прибегают к волонтерскому труду — будет рост волонтерской помощи.
- Замыкание помощи на своих. Проблема с доверием, возвращение к адресным сборам.
- Формирование сообществ, которые будут определять, кто свой, а кто чужой.
- Размытие границ благотворительности и третьего сектора.
- Государство будет усиливать контроль над сектором и напоминать о своей роли.







