Агентству социальной информации в 2024 году исполнилось 30 лет. По этому случаю мы публикуем серию интервью о том, как менялся сектор за это время и как он повлиял на социальные изменения в стране.
В этом году мы говорим с экспертами сектора — теми, кто на протяжении долгого времени работал в НКО и принимал участие в развитии сектора. Это интервью — с председателем Совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарьей Милославской.
Законодательство о некоммерческих организациях отмечает свое 30-летие. Как за это время изменился сектор НКО с юридической точки зрения?
С юридической точки зрения некоммерческий сектор поменялся, на мой взгляд, в лучшую сторону. Люди, которые создавали НКО в конце 1990-х, делали это, как правило, на эмоциональном порыве, желая просто помочь кому-то или попробовать заработать в новых условиях.
А сейчас, создавая организацию, люди в большей степени задумываются о том, как будущую деятельность вписать в правовые рамки. И это очень важно. Одно дело — хотеть сделать что-то хорошее, не обращая внимания на закон: просто хочу помочь и перевожу деньги.
И совсем другое — понимать, что хорошее дело в любом случае должно лежать в законной плоскости, и никак иначе. Я считаю, что за 30 лет сектор до этого дошел. Может, не на 100%, но на 70% точно. И это, по-моему, самое ценное в его росте в правовом смысле.
И конечно, появилось, на что ориентироваться. В 1995 году, когда приняли закон «О некоммерческих организациях», люди поняли основную мысль: создавать организации можно. Остальное было неважно. А сейчас они знают, какие есть нормы, ограничения, наказания и преимущества. И поскольку в законодательстве появилось больше порядка и системности, соответственно, больше порядка появилось и в головах.
В мае 2025 года ваша организация проводила конференцию, посвященную эволюции правового регулирования некоммерческого сектора. Какие самые значимые события или изменения выделили спикеры?
Мы не выделяли какие-то отдельные значимые события за эти 30 лет. Скорее хотели определить, на каком этапе находится законодательство сейчас, после такой долгой истории. Мы пытались понять, что требует изменений, насколько законы соответствуют ожиданиям сектора и государства, где есть противоречия или слепые зоны.
В последнее время появилось довольно много точечных изменений, которые, возможно, и не облегчают жизнь некоммерческой организации сиюминутно, но в перспективе делают ее работу более прозрачной, эффективной, безопасной.
Если говорить об испытаниях для сектора, то отправная точка — 1995 год для общественных объединений и 1996 год — для некоммерческих организаций. Первым таким испытанием стал закон 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Он ввел понятие Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и единые правила регистрации.
К началу 2003 года все ранее зарегистрированные организации должны были представить в налоговую определенные документы. Руководители многих НКО в то время законы почти не читали. Мы, юристы некоммерческого сектора, были малочисленны и не проводили никакой информационной кампании.
В результате большое количество общественных объединений, зарегистрированных до 2002 года, были автоматически ликвидированы только потому, что их руководители не знали о новом требовании. Их деятельность, которую они вели несколько лет, ушла в никуда. Это была неприятная неожиданность, после которой многие стали обращать внимание на законы.
Вторым испытанием стали изменения в законы «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях» в конце 2005 года, которые вводили отчетность для НКО и расширяли полномочия Минюста по контролю за их деятельностью. Первый отчет нужно было сдать в Федеральную регистрационную службу. Для многих организаций это было непросто.
До этого никто так не отчитывался, не думал ни про какие формы, подсчеты, источники финансирования и статьи расходов. Просто делали добрые дела. А тут нужно было вести отчетность. Многим пришлось собирать кучу документов, цифр, взаимодействовать с бухгалтером. Но сектор справился. Отчитались тогда 68–70% НКО, и эта цифра с тех пор держится на таком же уровне.
А какие вызовы появились в 2010-х годах?
Следующий вызов был в 2012 году, когда были приняты изменения в законодательство об организациях, выполняющих функции иностранного агента. Для многих крупных организаций, плотно сотрудничавших с иностранными партнерами, это стало испытанием. С 2014 года Минюст получил право включать организации в реестр не по их заявлению, а по итогам проверки. В итоге в тот год реестр наполнился достаточно крупными, знаковыми организациями. Многие из них потом вышли из реестра, но это был серьезный удар — нужно было перестраиваться, искать другие источники финансирования.
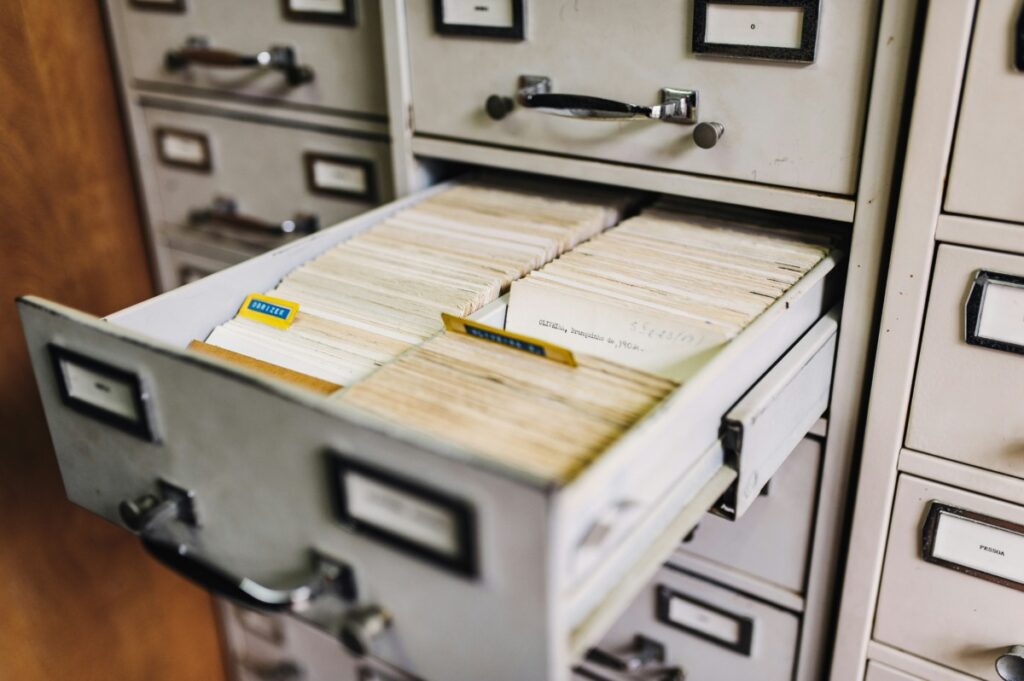
Еще один важный нормативный акт появился в 2014 году — изменения в Гражданский кодекс, которые меняли многие определения организационно-правовых форм НКО. По сути это серьезнейшие изменения, но по факту на сектор это не оказало почти никакого влияния. Большое количество организаций как существовали со старыми уставами, так и продолжают существовать.
Фото: Maksym Kaharlytskyi / Unsplash
Что касается нынешнего состояния, я бы сказала, что оно в основном благоприятствует развитию сектора. Да и проверки Минюста не носят массового характера и по большей части заканчиваются предписаниями об устранении нарушений собственного устава НКО. Появились, кстати, и типовые уставы. Многие коды ОКВЭД были изменены так, что теперь есть целый набор кодов специально для НКО, который коммерческие организации использовать не могут.
Появилась единая форма отчетности и портал Минюста. Я знаю, что многие к нововведениям относятся отрицательно, но портал Минюста — это очень удобное место, где собирается вся информация об организации.
Контроля стало слишком много?
К сожалению, многие некоммерческие организации живут по принципу: «Вот та организация закон нарушает, ее за это не наказывают, ну и я тоже так буду». И это, конечно, пагубный принцип для любой деятельности.
Я считаю, что контроль должен быть. Мы с коллегами очень часто сталкиваемся с уставами организаций, зарегистрированных в разных регионах, и с ужасом обнаруживаем, что эти уставы, не соответствующие закону, были зарегистрированы территориальными управлениями Минюста.
И организации живут по этим уставам. Люди, которые закон не знают (а их большинство), считают, что так и надо. Но проблемы начнутся во время проверок, и отвечать будет организация, а не тот, кто зарегистрировал ее устав.
Какие есть острые вопросы в секторе, которые еще требуют правового урегулирования?
В принципе, у нас урегулировано всё. Нет такого, что сектор просит урегулировать какую-то сферу. Скорее игроки хотят больше благоприятных условий, преференций, льгот. Сейчас, по-моему, нет явных неурегулированных вещей, которые мешали бы сектору. Важно справляться с теми нормами, которые уже существуют, являются обязательными и далеко не всегда легко выполнимыми некоммерческими организациями. Но, с другой стороны, как мы уже обсуждали, в некоторых вопросах законодательство становится легче и удобнее, можно сказать, что правовое поле НКО — это сад камней и цветов.
Возможно, плохо урегулирован процесс расформирования целевых капиталов. Но таких капиталов несколько сотен в России. Те, кто хочет расформировать целевой капитал, понимают, что в законе это прописано очень крупными мазками, не подробно. Но это нужно, может быть, 50 организациям. В масштабах страны это очень локальный и точечный вопрос.
Есть более общие, но не критичные вопросы. Например, налогообложение субсидий. Очень многие региональные власти сейчас выдают субсидии, и в разных субъектах разный подход: кто-то говорит — не платите налог, кто-то — платите. Здесь нужна единая точка зрения законодателя. Или, например, совсем не урегулирована сфера так называемого краудфандинга, в том числе с использованием различных платформ в сети интернет. Есть большие сомнения, что все, что связано со сбором пожертвований на этих платформах, лежит полностью в рамках закона. Если бы были внесены уточняющие поправки, было бы удобнее и менее рискованно.
Правовое регулирование напрямую зависит от государства. По вашим ощущениям, как за эти годы изменилось отношение властей к третьему сектору?
Это сложный вопрос, потому что неясно, что мы понимаем под государством. Это депутаты, которые принимают законы? Министерства, которые соприкасаются с НКО? Муниципалитеты?
Если говорить о депутатах, я думаю, что многие из них до сих пор плохо понимают, что такое некоммерческие организации. Те, кто состоит в профильных комитетах, — в курсе, многие из них сами работали в НКО. Остальные депутаты, я думаю, как не имели отношения к сектору, так и не имеют.
Что касается министерств, я, безусловно, должна отметить очень большую роль Министерства экономического развития, которое начало заниматься сектором системно еще в 2009–2010 годах.

И сейчас очень важную роль играет Минюст. То, каким образом сейчас ведомство исправляет ситуацию и берет на себя основную роль в развитии законодательства, — это очень правильная история. Такого раньше не было. Думаю, сейчас в профильном департаменте Минюста сформировалось достаточно полное понимание, что такое некоммерческий сектор.
Фото: Светлана Химочка / Unsplash
Я очень позитивно смотрю на взаимодействие Минюста с НКО. Мне кажется, все люди, которые этим занимаются, ничего плохого в законодательство не внесут, а наоборот, будут его улучшать и делать благоприятным для развития. Конечно, мы исключаем из этого все, что связано с иностранными агентами. Тут ясно, какая будет политика.
Говоря про Ассоциацию «Юристы за гражданское общество»: вы работаете почти 20 лет, как менялись запросы НКО, которые к вам обращаются?
Я работаю в секторе 30 лет, а нашей ассоциации — 20. Запросы менялись всегда. В самом начале было два основных типа запросов: на регистрацию и на то, как оформить получение денег. Помню, однажды нам принесли ящик с какими-то полудрагоценными камнями и спросили, как оформить их в качестве пожертвования… Надо сказать, что ответа мы не нашли.
С развитием законодательства появились другие запросы. Например, на изменение устава. Они были связаны с тем, что люди регистрировали организацию, не до конца понимая, чем будут заниматься. А когда начинали работать, понимали, что им в уставе не хватает какого-то вида деятельности. Также часто обращались за помощью с отчетами в Минюст.
После 2010 года запросы стали более системными. Например, когда началась государственная поддержка, конкурсы и гранты, организации поняли, что документация должна быть в порядке. Что нужны трудовые, гражданско-правовые договоры, что должна быть серьезная кадровая документация. Наконец, поняли, что на них распространяется закон о персональных данных, что есть серьезный бухгалтерский учет. Появились и юридические, и бухгалтерские запросы.
В 2013–2014 годах добавились вопросы, связанные с иностранным финансированием.
С какими запросами чаще всего обращаются в последнее время?
Если говорить о последних 10 годах, то больше всего запросов снова на регистрацию новых организаций. Это связано с расширением господдержки. Люди видят, что можно получить грант, региональные субсидии, и создают НКО.
Второй по популярности блок — оформление трудовых отношений. До недавнего времени было много сложностей у руководителей, которые получали пенсии или социальные пособия. Часто они работали без зарплаты, но по закону считались трудоустроенными, из-за чего лишались индексации пенсий или пособий. Сейчас этот вопрос в основном решен, но запросов о том, как правильно оформить руководителя — заключить трудовой договор или протокол о безвозмездном выполнении обязанностей, — по-прежнему много. Причина простая: самые высокие штрафы сейчас за нарушение трудового законодательства.
И в последние годы у нас появился большой спрос на консультации по законодательству о рекламе. Этого раньше не было. Недавно в стране появилось серьезное регулирование интернет-рекламы и социальной рекламы, поэтому сейчас много вопросов: что считать рекламой, а что нет, когда маркировать, а когда — не нужно.
Еще одна тема, которая многих волнует, — это целевые капиталы. Как только Фонд Потанина объявляет конкурс на формирование целевого капитала, у нас происходит взлет вопросов: как его создать, как реанимировать, что для этого нужно.
Чувствуете ли вы, что запрос на юридическую помощь среди НКО растет в последние годы?
Количество запросов варьируется или в зависимости от того, что происходит в законодательстве, или от времени года. Март и начало апреля — это катастрофическое количество запросов по отчетности. Можно с ума сойти, консультируя только по этой теме. К концу года просыпаются не очень опытные бухгалтеры, понимая, что им в марте сдавать баланс, и у нас растет спрос на бухгалтерские консультации.
Когда появляются новые требования, как, например, обязанность подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных, наши профильные юристы не отходят с рабочего места. А вот сейчас, например, затишье.
Это зависит не столько от общего уровня правовой грамотности, сколько от того, что на повестке дня. Но в целом запросов очень много. С 2006 года, когда мы начали вести учет предоставленных (оказанных) консультаций, их было почти 56 тысяч.
На ваш взгляд, какой вклад в развитие НКО-сектора внесла редакция АСИ и журналистика в целом?
Я бы разделила ваш вопрос. Агентство социальной информации, конечно, внесло очень большой вклад в понимание того, что сектор, во-первых, существует, а во-вторых, является если не равным, то почти равным игроком рядом с государством и бизнесом.
Информация, которую публиковало АСИ, всегда была профессиональной. Вы часто приходите за комментариями к нам, и это очень важно: в непрофессиональных материалах можно встретить информацию, которая вообще ничему не соответствует, а вы стараетесь работать на качество.

А вот журналистика в целом, я бы сказала, не всегда вносила позитивный вклад в правовое развитие сектора. Журналисты разных изданий очень часто не знают, о чем пишут. Они рассказывают одно о законе, а он совсем о другом. Дают новость, что теперь будет вот так, а так не будет, потому что закон нужно читать в совокупности с другими нормами.
Фото: Kate Bezzubets / Unsplash
В свое время было много «кошмаривания». Например, о той же отчетности писали в свое время: «Сектор погибнет под ворохом бумаг, невозможно ничего сделать!» Зачем это писать?
От лица юристов нашей ассоциации и других правовых команд могу сказать: мы очень любим Агентство социальной информации и всегда рады дать комментарий по вопросам, в которых разбираемся. А к журналистам в целом я бы обратилась с просьбой все-таки получать профессиональные комментарии, когда речь идет о законодательстве. Мы всегда готовы их предоставить.
Материал подготовлен по проекту «Проводники социальных изменений», который реализуется Агентством социальной информации при поддержке Фонда президентских грантов.
- «Функция НКО глобальна, она основана на эмпатии»: как изменились НКО за последние 30 лет — рассказывает Николай Слабжанин
- «Медицинский прорыв и счастливые родители»: как изменились НКО за 30 лет — рассказывает Фаина Захарова
- «Сохранять устойчивость, находясь в неустойчивом состоянии»: как изменились НКО за последние 30 лет — рассказывает Светлана Маковецкая








