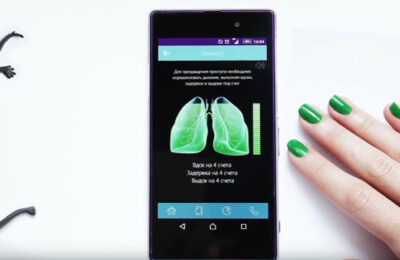Патологическое накопительство (по-другому – хоардинг или разговорное «синдром Плюшкина») – расстройство, при котором человек накапливает ненужные вещи, не в силах с ними расстаться. Постепенно жилое пространство превращается в склад хлама, что создает угрозу для физического и психологического здоровья. А вместе с тем – разрушаются социальные связи и быт человека.
В отличие от безобидной бережливости, при этом расстройстве человек собирает и хранит огромное количество предметов вне зависимости от их ценности. Не похоже это и на коллекционирование, когда у собираемых вещей есть определенная тема и порядок.
«Патологическое накопительство – это не ”неаккуратность” и не ”проявление характера”, а диагностируемое расстройство с предсказуемыми рисками для здоровья и безопасности», – отмечает врач-психиатр Анна Корендюхина, член медицинского экспертного совета фонда «Альцрус».
В современной классификации (например, МКБ‑11) «патологическое накопительство» выделено в самостоятельную нозологию в группе обсессивно‑компульсивных и родственных расстройств.
Как проявляется хоардинг?
Есть несколько симптомов, которые могут сигнализировать о патологическом накопительстве. При этом важно помнить: диагноз может поставить только квалифицированный специалист (психиатр или клинический психолог). Этот список – скорее ориентир для выявления потенциальной проблемы:
- Чрезмерное приобретение вещей и трудности расставания с ними. Человек копит вещи, которые не нужны и для которых нет места. А также испытывает стресс и даже страх при мысли, что нужно избавиться от ненужных вещей. Бывает случаи, когда человек приписывает вещам не реальную ценность, оправдывая этим желание ее сохранить (например: «Это чулки из СССР, такие уже не делают»).
- Захламление жилого пространства. Предметов становится так много, что на кухне становится невозможным готовить из-за груды вещей на плите и столе, а в комнатах остаются лишь узкие «тропки» для прохода.
- Ухудшение социальной жизни. Начинаются ссоры с членами семьи, которые пытаются навести порядок. В многоквартирных домах возможны конфликты с соседями из-за антисанитарии.
Также хоардинг может выражаться в стремлении завести как можно больше домашних животных. Все начинается с того, что человек искренне пытается помочь животным. Но постепенно число питомцев растет, а человек не может обеспечить необходимый уход.
Пара слов про терминологию
В разговорной речи патологическое накопительство часто называют «синдромом Плюшкина», вспоминая одного из персонажей произведения «Мертвые души». В нем Николай Васильевич Гоголь так описывал Плюшкина: «…все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе…».
Степану Александровичу Плюшкину было около 70 лет, поэтому часто патологическое накопительство связывают с пожилым возрастом. Но это не так.
«Грубое медийное название “синдром Плюшкина” неточен и стигматизирует пожилых людей, значимая часть пациентов вовсе не люди старшего возраста, а начало симптомов чаще приходится на подростковый и юношеский периоды с постепенным нарастанием тяжести с каждой последующей декадой жизни», – объясняет Анна Корендюхина.
Эксперт уверена: образ «захламившегося старика» укрепляет предвзятость и мешает людям искать помощь. Расстройство накопительства – распространенное и во многих случаях хроническое состояние. Поэтому нужна не насмешка, а раннее распознавание, бережное вовлечение и командная работа по снижению вреда и наращиванию навыков.
Как часто и у кого это встречается?
По статистике, примерно у 2,5% людей во всем мире есть симптомы хоардинга, примерно у одного человека из 40. При этом распространенность и выраженность симптомов действительно возрастают с возрастом: у лиц старше 60 лет клинически значимые проявления встречаются чаще. А после 55 лет доля людей с выраженной симптоматикой в исследованиях превышала 6%.
«Здесь важно заметить две мысли. Первая – старение усиливает выраженность давнего паттерна, а не ”порождает” его на пустом месте. Второе – пожилой возраст сам по себе не равен деменции. Полагать, что ”накопительство = старость/слабоумие” некорректно и стигматизирующе», – продолжает врач-психиатр.
При этом гендерных различий нет, так как расстройство встречается одинаково часто и у мужчин, и у женщин. А вот причин возникновения этого расстройства несколько.

«Мы видим вклад сразу нескольких уровней. Во‑первых, нейрокогнитивный: у людей с расстройством накопительства решения о расставании со “своими” предметами сопровождаются атипичной активацией передней поясной извилины и островка – зон, вовлеченных в мониторинг ошибок, значимость стимулов и ”тяжесть” выбора, это объективно усиливает дискомфорт при выбрасывании и закрепляет избегающее поведение», – объясняет медицинские аспекты эксперт.
Фото: Liar Liur / Unsplash
Влияет и наследственность: исследования показывают существенную долю генетической обусловленности (порядка 40–50%) при развитии расстройства. Причем влияние генетических факторов заметно в подростковом возрасте и сохраняется во взрослой жизни.
Также в группе риска люди с тревогой, депрессией, СДВГ – эти особенности усиливают проблемы категоризации, планирования и принятия решений, из‑за чего появляется мысль «лучше сохранить на всякий случай».
Связано ли это с деменцией
Сам по себе хоардинг – не признак деменции. Однако «псевдохординговые» паттерны (такие как прятать, перекладывать, формировать «запасы», обвинять в краже из‑за забывчивости) нередко встречаются при болезни Альцгеймера и другой деменции. Но в этом случае источником поведения выступают утрата кратковременной памяти, настороженность и страх «потерять нужное», а также снижение самоконтроля.
«Отдельно подчеркну так называемый ”синдром Диогена” – тяжелое самонебрежение, антисанитария, социальная изоляция, отказ от помощи, иногда с накопительством – чаще встречается в пожилом возрасте и может сочетаться с деменцией, но не сводится к ней и требует отдельной многоотраслевой оценки рисков», – продолжает Анна.
Что делать на практике и как помогать
Лечением патологического накопительства занимается врач-психиатр. Сначала специалист проводит диагностику. Важно знать симптомы болезни и отличить ее от других психических расстройств со схожими проявлениями.
«Золотым стандартом» лечения остается специализированная когнитивно‑поведенческая терапия. Врач помогает понять человеку причины патологического накопительства и проработать эту проблему. Например, помогает научиться реально оценивать ценность вещей и отказываться от того, что не нужно.
А вот медикаменты, отмечает Анна Корендюхина, пока дают скромный вклад – контролируемых исследований мало. Хотя лечение коморбидной депрессии или тревоги улучшает переносимость психотерапии.

«В повседневной работе мы часто используем модель “снижения вреда” – приоритезируем безопасность (проходы, электрика, плита, доступ к кровати и санузлу) и постепенные поведенческие изменения, а не “идеальную чистоту”. Неэффективны и нередко травматичны “силовые зачистки”: без изменения паттернов приобретения и расставания они дают кратковременный эффект и подрывают доверие», – говорит врач-психиатр.
Фото: Polina Cherkasova / Unsplash
Если накопительство возникает на фоне деменции, цели и подходы будут другими, в первую очередь эксперты оценивают риски и поддерживают повседневное функционирование.
Полезны «безопасные зоны для перекладывания» (коробка/комод, в котором можно «копаться» без вреда), ограничение числа «тайников», дубли важных предметов (очки, ключи, слуховой аппарат, пульт), защита ценностей и документов, регулярный «маршрут» проверки типичных мест, где вещи прячутся, а также снижение сенсорной перегрузки и стресса.
Также важна междисциплинарная работа – геронтопсихиатр или невролог, социальные службы, пожарная и жилищная безопасность, при выраженной угрозе жизни – оценка дееспособности и, при необходимости, юридические механизмы защиты.
Что могут сделать близкие?
Эксперт советует: начать лучше с уважительного альянса и признания права человека на решения о своих вещах. В разговорах о накопительстве стоит обсуждать не «мусор», который копит человек, а цели и ценности, которые ему важны. Например, возможность безопасно готовить, спать на кровати и принимать гостей.
«Ставьте конкретные и измеримые шаги – “освободить один проход шириной 90 см”, “сделать доступ к плите”, “разобрать одну коробку в день”. Ограничивайте приобретение, вводите “контейнерное правило” (”объем шкафа ограничен – избыток уходит”), работайте с дубликатами», – говорит Анна.
Также не стоит выкидывать вещи тайно: это почти всегда усиливает недоверие и срывы. Чтобы разговаривать предметно и без взаимных обвинений, удобно пользоваться визуальными шкалами загромождения.
Если есть животные – это отдельная тема и повод подключать ветеринарные и социальные службы.
Материал подготовлен по проекту «Проводники социальных изменений», который реализуется Агентством социальной информации при поддержке Фонда президентских грантов.