Инициаторы проекта «БиблиоДетки. Древо жизни» — АНО «Центр инклюзивных социальных проектов “Элеос”» и администрация библиотеки «На Морской». Руководитель проекта, президент АНО «Элеос» Наталья Денисова (Журавлева) занята в проекте с сыном Иваном, мальчиком с РАС. Вместе с семьями над их историями работают генеалог Ольга Полфёрова, писатель Андрей Демьяненко, художник Валериус, мультипликатор Елена Алексеева и композитор Юрий Бородин. С проектом и фондом «Элеос» давно сотрудничает поведенческий аналитик Мария Рюмина.
Как все начиналось? «Элеос» проводил в библиотеке «На Морской» инклюзивные семейные мероприятия. А Ольга Полфёрова читала там лекции по генеалогии. Наталья Денисова и заведующая библиотекой Антонина Бородина в какой-то момент решили организовать инклюзивное занятие и по генеалогии. Но важно было придумать именно семейный проект, чтобы участвовать в нем было интересно и детям.
Так родилась идея мультипликационного эссе — чтобы дети в технике под названием «перекладка» смогли «оживить» какие-то сюжеты из жизни своих родственников. В этой технике можно сразу видеть, что получается, так что это очень увлекательно. То есть одна секунда — 24 кадра. Перекладывая рисунок, надо сделать сотню кадров, а потом можно просмотреть их на телефоне в режиме видео.

Семь петербургских семей, в трех из которых есть дети с расстройствами аутистического спектра, встретились в библиотеке «На Морской» и начали с составления своего генеалогического древа. Потом каждая семья выбрала одну особо дорогую ей семейную историю, писатель превратил эти истории в сказки, а художник и мультипликатор воплощают эти сказки в мультфильмы. И все это называется «БиблиоДетки. Древо жизни». В проекте участвуют дети в возрасте от шести до 16 лет.
На сегодняшний день уже готов первый мультфильм, который называется «Волшебное блюдце».
Понятная система
Кажется, что генеалогия и обучение детей с аутизмом — далекие друг от друга вещи. На самом деле здесь может быть решено много практических вопросов. Участие ребенка с РАС в таком проекте — мощный ресурс для обучения, формирования мотивации, снижения тревожности, социализации. А у детей с аутизмом социализация — основной дефицит, так как нарушение коммуникации влечет за собой и проблемы с социализацией. Такому ребенку не хватает сразу нескольких навыков, которые в принципе позволяют нам находиться среди людей.
На занятиях присутствуют разные специалисты: мультипликаторы, сценарист, родители. То есть сама среда ставит перед ребенком разнообразные коммуникативные задачи: послушать другого, попросить, ответить, выполнить просьбу, наблюдать последовательность диалога. Ведь часто наши дети из диалога вылетают в монолог: начинают говорить на свою любимую тему и не слышат, что им говорят другие. А внутри этого проекта у ребенка тренируются те навыки, отсутствие которых и влечет коммуникативное расстройство: они учатся поддерживать диалог, тренируют ожидание или готовность к отказу. Например, «сейчас не твоя очередь говорить, пусть другой ответит». И так далее.
Мультипликация — еще один эффективный инструмент в работе с такими детьми. Она хорошо помогает прививать навыки общения с внешним миром, восполнять дефициты коммуникации. Участвовать в создании мультика про твою семью для ребенка с РАС значит получать новые навыки. Например, нарисовать персонажа или наблюдать, как собирают информацию, как выстраиваются в систему семейные фотографии, как растет генеалогическое древо, — новые для него виды деятельности.



Фото предоставлено АНО «Центр инклюзивных социальных проектов “Элеос”»
Многих детей с РАС на протяжении всей жизни сопровождает тревожность, которую далеко не всегда можно снять медикаментозно. И снижать ее помогает как раз структура с понятными связями внутри или любая последовательность действий. Например, мы составляем вместе расписание и проговариваем, что за чем нужно делать.
Семейное древо — это тоже определенная структура, поэтому рисование, визуализация семейных связей даже в виде таблицы, где все расставлены по своим местам, полезны для них. Семья — это очень понятная структура. И когда ребенок с РАС видит внутри этой структуры себя, в своей ячейке, то уровень тревожности снижается, что также помогает ему развивать социальные навыки.
Особенно такая работа важна для подростков с сохранным интеллектом. В их жизни наступает момент, когда они понимают, что они не такие, как все. И здесь визуализация семейных и социальных связей помогает им понять, что они не оторваны от людей, не одиноки, а встроены в понятную им систему, где есть поддержка взрослых. Осознавать свою принадлежность к определенной семье — вот что по-настоящему ценно.
От семьи — ко всему человечеству
Механизм обучения таков: развитие одних навыков влечет за собой развитие других, более сложных. В итоге ребенок замотивирован добиваться успеха. Поэтому проекты вроде «Древа жизни» становятся новой ступенью в социализации.
Семейная история дает полезный наглядный материал в обучении, и мы, поведенческие терапевты, часто используем ее. Когда мы обучаем ребенка знать свою семью, мы выстраиваем перед его глазами систему — запрашиваем фотографии родственников, узнаем, кто из них где работает и проговариваем с ребенком все связи последовательно: «Брат моей мамы — дядя, его дочка — моя двоюродная сестра». Так мы выстраиваем недостающие логические связи. Тема семьи и даже дальнего родства для их формирования вполне подходит.
Работа над составлением генеалогического древа и связанные с ним поиски информации о родных дают ребенку большой пласт информации, на базе которой позже можно будет развивать более сложные навыки.
В процессе поиска не просто находятся имена, а изучается история семьи, отношения между родственниками, мы также узнаем об их профессиях, местах, где они жили. В любой семье хватает переездов и разных драм, разводов и новых браков. С высокофункциональными детьми мы говорим и на тему смерти. Так ребенок узнает про смену поколений, и это дает ему представление о том, как устроена жизнь его семьи и всего человечества как биологического вида.
Визуальная поддержка
Генеалогическое древо — это визуальная подсказка для ребенка при изучении самого понятия семьи, и, когда он учится называть каждого из членов семьи — «это бабушка», «это дедушка», «это дядя», — он запоминает имена каждого из них. Так что древо может помочь в освоении такого навыка. При этом древо расширяет список родственников, то есть развивает мышление ребенка в этом направлении. Когда есть визуальная поддержка, детям с РАС намного проще обучаться, так как у них хорошо развито визуальное восприятие.


Фото предоставлено АНО «Центр инклюзивных социальных проектов “Элеос”»
Для ребенка с аутизмом ассоциативная сфера очень сложна. Но при помощи генеалогического древа он может осваивать даже сложные социальные истории, например, переезды или перемены занятий. Он видит картинку, где нарисовано, что его прабабушка и прадедушка сначала жили там-то, потом переехали туда-то, дедушка работал машинистом, а потом стал начальником депо. И так постепенно ребенок в принципе начинает понимать, как это происходит у людей.


Фото предоставлено АНО «Центр инклюзивных социальных проектов “Элеос”»
А еще он учится задавать вопросы: «Где жила моя бабушка?», «Кем работал мой дедушка?», «Какого цвета у бабушки были глаза?», «Была ли у них кошка?». И далее ребенок с аутизмом может перенести подобные вопросы в контекст общения со своими сверстниками. Ведь обычные дети, например, 9–10 лет рассказывают друг другу, у кого кем работают родители, дедушки и бабушки, другие родственники. Так что эти вопросы можно превратить в социальные инициативы.
«Дедушка тоже любил тишину»
Если у ребенка есть какие-то специальные интересы, например, ему нравятся паровозы, а в ходе составления генеалогического древа выяснится, что его дедушка был машинистом, то это может стать хорошей мотивацией для соединения своего интереса с историей семьи. То есть происходит дополнительное обучение и внедрение этого метода в обучение другим навыкам. Ребенок узнает, что его дедушка был машинистом, когда ему предлагают найти паровоз, на котором дедушка ездил, построить маршрут. И здесь очень многое из найденной информации можно нанизывать, как бусины. Так создается мотивационная среда.

Иногда семейная история может объяснять ребенку его особенности. Например: «Твой дедушка любил тишину, и ты тоже любишь тишину» или: «Твоя бабушка тоже раскладывала полотенца по цветам». Люди с аутизмом стигматизированы. Многие из тех, кто знает о своем диагнозе, работают с психологами или психотерапевтами не только для того, чтобы снять внутреннюю стигматизацию, но и чтобы научиться общаться с людьми во внешнем мире и адекватно воспринимать то, что не все могут к ним хорошо отнестись. И узнав о том, что он чем-то похож на кого-то из предков, ребенок может почувствовать, что он не один, что за ним целые поколения, где у кого-то тоже могли быть какие-то особенности.
Однажды я занималась с подростком, у которого синдром Аспергера. Он не знал, как вести себя в определенных ситуациях. И его мама рассказывала, что говорила ему: «Твой дедушка в этой ситуации поступал вот так». То есть ребенку дают возможность воспользоваться опытом многолетней давности, чтобы улучшить свою жизнь.
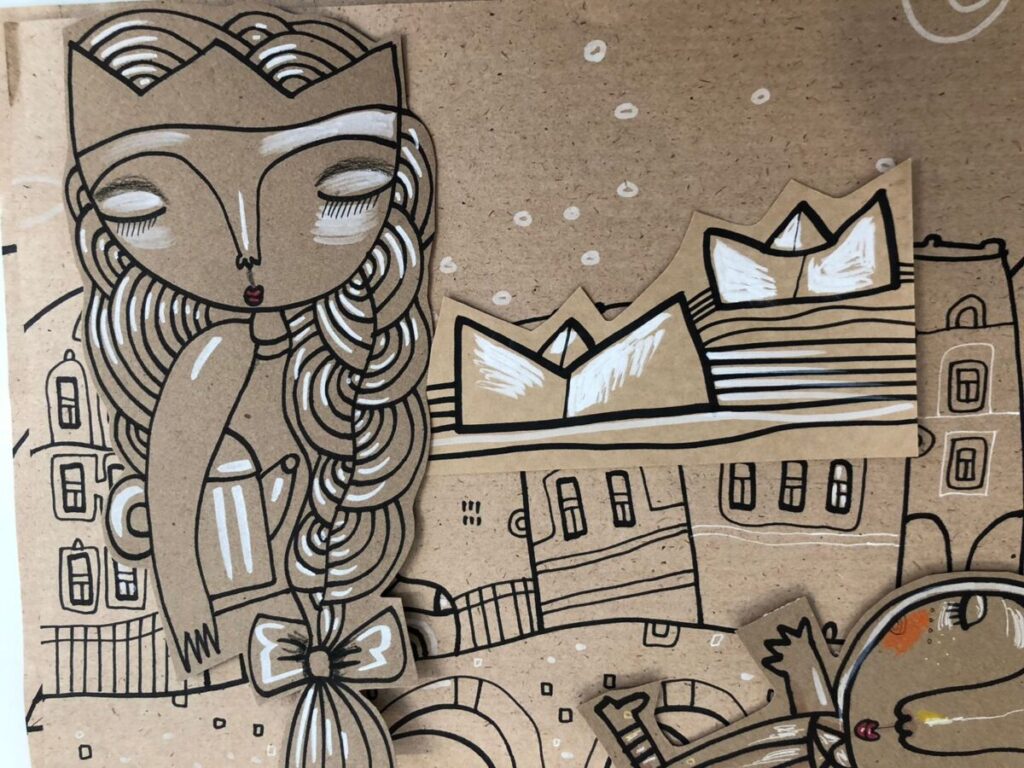
Из добрых детей вырастают добрые взрослые
Инклюзия полезна и нормотипичным детям — так они учатся не пугаться людей с особенностями развития, принимать как должное, если такие люди находятся рядом с ними. Благодаря инклюзивным проектам дети становятся добрее, более склонными к терпимому отношению к тем, кто отличается от большинства. А из добрых детей вырастают добрые взрослые.
Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
Материал подготовлен по проекту «Проводники социальных изменений», который реализуется Агентством социальной информации при поддержке Фонда президентских грантов.
- Работа, спорт, поход в музей, онлайн-курсы и выходные в деревне: пять практик социализации для взрослых людей с аутизмом
- Тест на знание скипидара и нули за молчание: как официальные методы диагностики мешают детям с аутизмом получать образование
- «Еда — наказание для всех»: почему детям с аутизмом сложно есть






