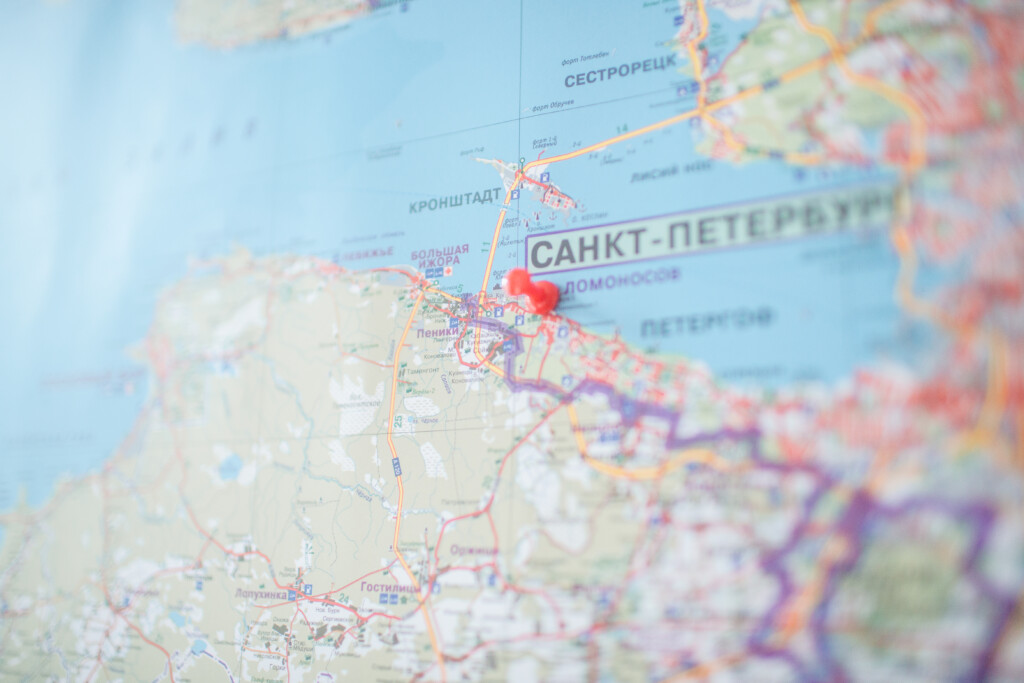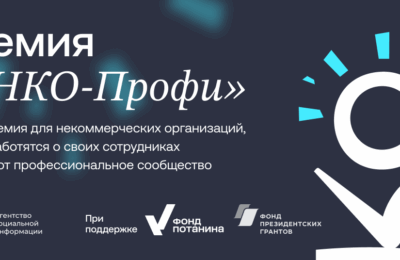Интервью – часть проекта Агентства социальной информации и Благотворительного фонда Владимира Потанина. «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал кроссмедийный, выходит в партнерстве с порталом «Вакансии для хороших людей» и журналом «Домашний очаг» .
Как вы узнали о диагнозе?
Это был 1999 год, в 16 лет, когда я готовилась к госпитализации и делала полное обследование организма. Если бы не обращение за медпомощью, я бы не обследовалась и ходила в полном незнании.
Я была в кабинете со своей мамой, так как одна не могла получать медицинские услуги. И я больше испугалась за нее. Была вина, что я неправильная дочь, опозорила ее. Мой фокус так сместился на эмоции мамы, что про свои я даже не помню. В тот же день мы доехали до центра СПИД, где благополучно привели в божеский вид и эмоции и мысли относительно ВИЧ-инфекции. Мне очень повезло с врачами, на которых я «наткнулась» после диагноза.
Как воспринималась ВИЧ-инфекция в Петербурге 1999 года?
На тот момент времени Кировский район был очаговым по вирусу. У меня во дворе были ребята, которые болели СПИДом и которым я сопереживала. Самое неприятное, что уже тогда были погибшие. Но они погибали в больнице, поскольку они не принимали лечение, тогда таблеток еще не было, и потому что они употребляли наркотики. Если бы не наркотики, они могли бы дожить до времени появления таблеток.
Про то, что район очаговый, я узнала из мобильного пункта организации «Гуманитарное действие», они с 1997 года работали в Петербурге в сфере профилактики ВИЧ. Нас в этом пункте просвещали, что есть заболевание и как с ним жить.
Лекарства в доступе появились только в 2006 году. Если в 1999-м их кто-то и пил, то это были избранные. Потом у меня появились коллеги, которые пили таблетки уже в конце 90-х, но это были препараты «старых» поколений, Их было много и прием был тем еще квестом. К 2006 году уже появились жизнеспособные схемы, которые позволяли не отменять всю остальную жизнь.
Что в 1999 году говорили про перспективы? Было ли запугивание и обещания, через сколько лет вы умрете?
Мне повезло. Я общалась с врачами центра СПИД, и первой, кто нас встретил, была эпидемиолог. Тогда на учете в Петербурге стояло всего 4 тысячи пациентов, сейчас — 57 тысяч. За счет того, что не было большого потока пациентов, врач мог уделить каждому столько времени, сколько необходимо.
Доктор сказала мне: «Если ты захочешь, все свои жизненные планы сможешь реализовать. Главное — ходи сюда, наблюдайся, сдавай анализы, и всё будет хорошо». Может, на тот момент она меня успокаивала, но это на меня повлияло. Мне было нужно профилактировать некоторые моменты — туберкулез, пневмонию, — но я понимала, что ВИЧ — это не сифилис, через полгода нос не отвалится.

Это я уже позже узнала, что таблетки — единственный залог качественной жизни (современные протоколы рекомендуют начинать антиретровирусную терапию как можно раньше, желательно в день постановки диагноза. — Прим. АСИ), но тогда лечения толком и не было, поэтому мне врач его не рекламировал.
В фонде я начала работать как раз тогда, когда появилось лечение. Меня привлекли, чтобы я людям рассказывала, что есть таблетки, что их можно пить, ты можешь строить долгосрочные планы.
Вы упоминали, что получили заболевание от своего молодого человека. Он дожил до наших дней?
Да. Я недавно видела его в центре. Он не то чтобы хорошо выглядит, но выжил парень.
Вы общаетесь с ним? У вас были к нему вопросы?
Нет. Претензий изначально не было, потому что я понимала, что есть серьезное влияние мужской особи на меня, и многие вещи я делала из страха оценки: быть неугодной, недобной. Я не видела альтернативы. Когда я узнала о статусе, я прозрела по поводу личной ответственности за свое здоровье.
Мой внутренний судья сказал: а где твоя инициатива по поводу тех же презервативов?
Мне стало грустно, только когда я узнала о еще двух [зараженных им] девочках. Я четко понимала, что это уже зашквар. Люди могут бояться говорить о своем статусе, они боятся быть отвергнутыми. Но, чувак, это уже не комильфо.
Понятно, что в 16 лет у вас уже были определенные планы на жизнь. Они как-то поменялись в связи со статусом?
Как раз не поменялись. Я хотела быть поваром высокой кухни. В общем-то, я поступила в училище. Врач мне сказала, что нет никакой проблемы: иди и учись. Она меня поддерживала и не запугивала, пыталась быть со мной на одной волне.
В училище знали о статусе?
Знал только мальчишка, который учился со мной, он тоже был ВИЧ-положительным. Преподаватели не знали. Но врач меня предупредила, что люди могут относиться к информации о статусе не очень адекватно. И, если эта информация не важна критически, например при операциях, то лучше не орать об этом на каждом углу.
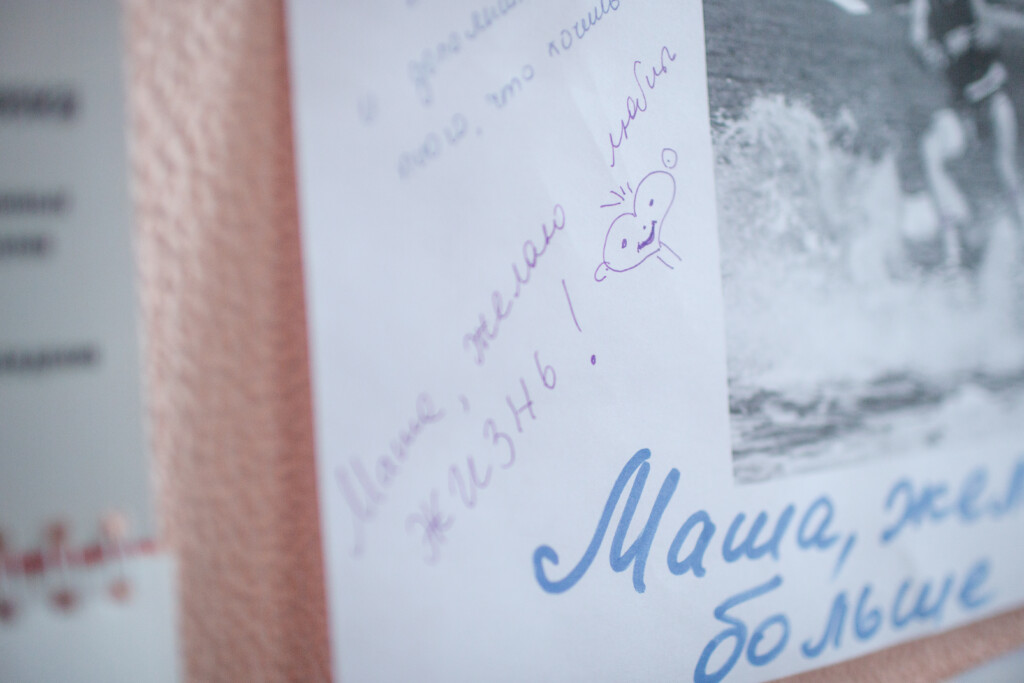
Фото: Светлана Булатова/АСИ 
Фото: Светлана Булатова/АСИ 
Фото: Светлана Булатова/АСИ 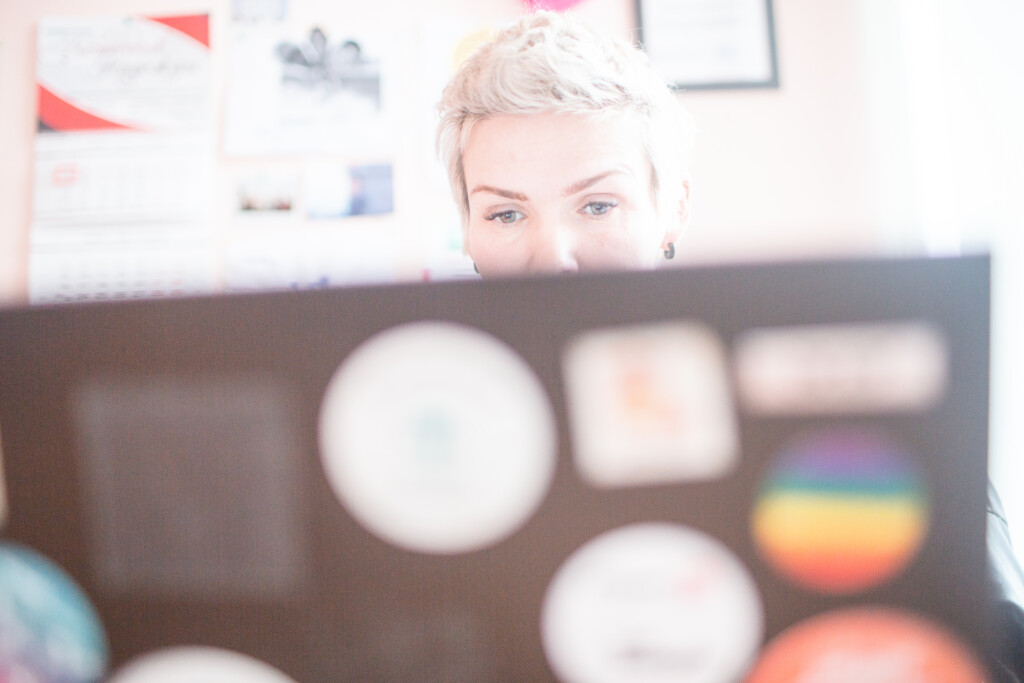
Фото: Светлана Булатова/АСИ 
Фото: Светлана Булатова/АСИ
Вам удалось поработать поваром?
Нет, я не доучилась: поняла, что это не мое направление. Я не особо верила, что смогу пробиться в суперкрутые рестораны. Тогда же у меня случился первый брак, и я вся отдалась дому и быту. Моих кулинарных способностей хватало, чтобы удивить мужа.
В какой момент в вашу карьеру домохозяйки закрались мысли об активизме?
Мне была близка тема алкоголизма, так как мой отец был алкоголиком и умер из-за этого. В какой-то момент времени я пришла работать в Центр независимости Валентины Новиковой. Торговала там тематической литературой, записывала людей на консультации и познакомилась там с прекрасной девушкой, которая на тот момент организовывала один из ВИЧ-сервисных фондов. Она мне сказала: «Маш, ты так легко говоришь о ВИЧ-инфекции». Я никогда не скрывала.
Эта девушка рассказала мне о самоорганизации людей, живущих с ВИЧ, «Свеча». Им очень нужны были люди в больнице на Бумажной: тогда это был хоспис, а сейчас — стационар людей, живущих с ВИЧ. Волонтеры нужны были, чтобы объяснять, что есть лечение, что можно контролировать заболевание, а не гадать на кофейной гуще, когда тебя накроет.
Я согласилась. Примерно тогда же я открыла свой статус в СМИ. Оказалось, что на тот момент из российских женщин о своем статусе говорила только Света Изамбаева, хотя феминизация эпидемии шла вовсю.
Года два я отработала в больнице: говорила с людьми, готовила их к терапии, занималась просвещением: что лечение есть, оно работает, что это не исследование препаратов на нас.
Ваша работа заключалась в том, что сейчас называется peer-to-peer?
Именно так. Равный равному. Конкретно в этом проекте я работала два года. В то же время начался исследовательский проект «Симона плюс», его фишка была в том, что пациенты сами собирают информацию по изначальной разработке социолога. Мы оценивали доступ к препаратам, которые появились в РФ.
Вы сказали, что это был хоспис, то есть там находились люди в терминальной стадии?
А тогда и не было другой стадии. Это сейчас мы можем вытащить человека — в терминальной стадии и с букетом болезней — практически с того света. Тогда, если человеку становилось хуже, он приезжал умирать. До меня ребята в «Свече» занимались исключительно паллиативной помощью. Мне повезло: я говорила о надежде, а не только о смерти. Сейчас если человек умирает от СПИДа — это либо неинформированность, либо осознанное желание покинуть этот мир.
Помимо темы ВИЧ, вы сотрудничали с НКО, которая называется «Преступники возвращаются в общество». Что это была за организация?
Да, это была прекрасная организация. Она родилась в Швеции, когда двое преступников освободились из тюрьмы и решили, что больше не будут заниматься криминалом. Решили поддерживать друг друга, чтобы больше не вернуться к криминальному поведению.
История, как у анонимных алкоголиков: люди проводят друг друга по пути некриминального поведения. Я вписалась в эту историю, опять же, из-за отца — он имел криминальный опыт. Один из моих братьев и часть ребят, с которыми я выросла, имели криминальный опыт и не видели выхода из ситуации. Некоторые умудрялись в первый же день после освобождения натворить кучу дел и вернуться обратно. Ознакомившись с тематикой, я узнала, что повторное возвращение в пенитенциарную систему происходит в первый месяц. Не потому, что человек так сильно хочет, а потому что у нас нет системы ресоциализации.
Тогда же я узнала, сколько проблем в пенитенциарной системе у женщин… Например я не понимаю, как можно разлучить мать с ребенком. А в местах заключения ребенок находится с матерью только до трех лет, а потом уезжает в детдом, и найти его — отдельная история.
В чем заключалась ваша работа?
Я была по связям с общественностью. Рассказывала о целях фонда, о его методике, привлекала в фонд новых людей и новые организации, которые хотели партнериться.
К сожалению, фонд в России уже не существует. Увы, наша система наверное пока не готова настолько сильно меняться. У Швеции другой подход к преступности и к наказанию. У нас эта история не прижилась, хотя на мой взгляд, она решила бы кучу вопросов, с которыми сталкиваются государство и люди.
После этого вы вернулись в проекты, связанные с ВИЧ?
Да. Я работала в организации “Родительский мост” с людьми, чаще всего с женщинами, с ВИЧ-статусом. Занималась их сопровождением в социальные и медицинские учреждения. Также я была кейс-менеджером в «Гуманитарном действии»: сопровождала как зависимых людей, так и просто людей, живущих с ВИЧ. По сути, это тоже был linkage — доведение людей до медучреждения для последующей диспансеризации.
Всё было вокруг и около людей, живущих с ВИЧ. Я понимала, что вне зависимости от состояния человека можно организовать и лечение, и уход, и профилактику.
Как удавалось совмещать несколько проектов одновременно?
Мне кажется, это обычная история для человека, который работает в некоммерческой организации. На один проект ты как минимум не проживешь. Да и в целом, здесь не то чтобы возможно поднять денег. Но все равно затягивает.
Например, как я работала в «Гуманитарном действии»: днем я находилась в отделении реабилитации городской наркологической больницы, работала с ребятами по вопросу приверженности (лечению. — прим. АСИ). Ближе к полднику ехала в мобильные пункты, где тестируется народ, узнает о статусе, берет брошюры. А вечером ехала на пункт, который работает с женщинами, оказывающими услуги сексуального характера. По сути, это три разных проекта, но они об одном и том же. В какой-то момент ты понимаешь, что нет ни выходных, ни проходных.
Выгорание не наступало?
Я даже уходила, но всего на полгода. Работала в одной из сеток нашего города, которая торгует дорогими и хорошими сумками.
Я не выдержала. Потому что понимала, что, продав эту сумку, я ничего не сделала, кроме продажи сумки. Я не видела результата своей работы. Да, сумка понравилась женщине, но она ничего не поменяет в ее жизни.
Я поняла, что мне нужно возвращаться, потому что мне хотелось изменения этого общества. Мне приходилось структурировать работу, обращаться за психоэмоциональной помощью, следить за психологической гигиеной. Но я, наверное, так и буду работать в этой сфере, насколько хватит сил.
Ваш второй муж Денис Годлевский — также ВИЧ-активист. Это вы его вовлекли?
Он сначала долго ругался на меня и говорил: «Сколько же можно работать, это же невозможно». Но я отшучивалась и говорила: «Сколько веревочка ни вейся, ты тоже придешь». Он достаточно неравнодушный и отзывчивый человек. Я понимала, что он тоже придет в эту сферу. Так и получилось: пришел и остался. Сейчас он компетентный специалист, не побоюсь этого слова — эксперт, который влияет на умы.
Как вы начали работать в Ассоциации «Е.В.А.»?
Параллельно со всеми своими вышеперечисленными работами я участвовала в формировании ассоциации — на этапах целей, стратегий. Это было незадолго до декрета. А после него я вернулась в ассоциацию работать.

Мне очень отзывались цели «Евы». Были проблемы с феминизацией эпидемии, которые никто не освещал, никто не озвучивал. На тот момент в ассоциации был конкурс: команде нужно было выбрать себе наставника. На этот пост претендовали три кандидатуры, выбрали меня, что, конечно, было очень приятно: мне доверили руль команды. Два года я отработала по направлению постановки работы равных консультантов в центрах помощи семье и детям, в отделениях для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Проблема феминизации эпидемии затрагивала всю Россию?
Не только. Мы общались с другими городами и странами, понимали, что везде одна и та же сборная солянка: везде есть экономическая и психологическая зависимость. Женщин, опять же, не переделаешь, у них больше биологическая уязвимость к ВИЧ-инфекции (при незащищенном половом контакте вероятность передачи вируса от мужчины к женщине значительно выше, чем от женщины к мужчине. — Прим. АСИ). В общем-то, это картина мира в целом.
Как на вас повлиял опыт материнства?
Наверное, я начала чуть больше понимать ВИЧ+ женщин с детьми, с какими проблемами они сталкиваются.
На самом деле, я шла в свою женскую консультацию вставать на учет немного настороженной. Я не знала, какой будет реакция моего гинеколога, и готова была отстаивать свои права. Но мы шикарно поговорили. Это была молодой врач, она очень крутая. Она сказала: господи, хорошо, что вы пришли. Дайте мне брошюрки вашей организации. У нее было много женщин, которые, узнав о ВИЧ+ статусе, уходили безвозвратно.
Чуть позже в женских консультациях появились мои фотки: с Денисом и с [сыном] Ратмиром. На эти плакаты уже ссылались врачи. Говорили: «Она настоящая, не модель какая-то, родила, и у нее все нормально».
Только на моменте родов — я приехала по скорой, потому что ребенок решил родиться раньше — медсестра начала говорить какие-то глупости: «С таким диагнозом еще и рожать». Я сказала, что у меня плохо со слухом и с памятью, поэтому я сейчас диктофон включу, — и разговор закончился. Я в итоге всю беременность наслаждалась работой, собой, покупкой вещей, а не страхом и паранойей. В сентябре я родила, а еще в июле была в Штатах на конференции.
Я уже была прокачанная и четко знала, что я пью таблетки, что с ребенком будет всё хорошо и моя беременность ничем не отличается от других.
Расскажите о вашей работе менеджером проектов в ассоциации «Е.В.А.».
На самом деле, я координировала работу равных консультантов. Но я такой человек, который не может только бумажками заниматься, поэтому моей добровольной историей осталась работа в поле и оказание консультаций.
С какими основными проблемами вы сталкиваетесь в работе?
Всё очень зависит от принятия диагноза. Огромное количество проблем проистекает из самостигмы. Человек считает себя недостойным, плохим и не отстаивает своих прав, никогда не напишет никакую жалобу или в принципе не будет обращаться в центр СПИДа. Самостигма — это огромная проблема, из которой ручейками вытекает океан.
Еще одна большая проблема — это узаконенное нарушение прав людей. Та же самая 122 статья УК, с которой, по сути, любого человека, живущего с ВИЧ, можно привлечь к уголовной ответственности за «постановку в угрозу заражения».
УК РФ Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией
1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией —
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, — наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.
4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей —
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения.
Если человек с ВИЧ принимает антиретровирусные препараты — он полностью безопасен, его можно хоть сожрать с ритуальными танцами. Но, тем не менее, он обязан говорить о своем статусе партнерам, потому что вирусная нагрузка в суде не играет роли. Даже если я скажу партнеру о своем статусе, я вряд ли смогу потом доказать это в суде, потому что партнер скажет: «А она мне ничего не говорила». К сожалению, этим пользуются: вымогают деньги с ВИЧ+ людей, шантажируют.
То же — с усыновлением. Сейчас человек с ВИЧ может усыновить только близкого родственника, брата или сестру. Но я не могу просто прийти в детдом и забрать ребенка — это один из законных способов дискриминации людей с ВИЧ.
Вы участвовали в фильме Дудя про ВИЧ. Был ли всплеск интереса к вашей персоне и к организации? Может, пришлось столкнуться с негативом?
И до этого люди обращались ко мне — мой телефон плавает в сети. Для меня это важно, потому что я могу быть источником перспективы и надежды для человека. Хотя, спасибо моему супервизору, я понимаю, что я не одна в Российской Федерации и кроме меня есть еще люди, которые отвечают на вопросы по жизни с ВИЧ.
Так что жизнь не изменилась. Мы смеялись, что автографы будем давать, а никто не просил. Хотя Денису Годлевскому, кстати, бесплатно кофе давали в «Буше». А мне нет!
Опять всё лучшее мужчинам!
(Смеётся) С негативом я тоже не сталкивалась. Мне в личку никогда не прилетало «гори в аду», может, мне повезло. Комментарии под видео я старалась не читать — мне это просто неполезно, потому что всегда есть люди, которым ты не вышел лицом.
Как ваша работа пережила перевод на онлайн-рельсы?
В чем-то мне стало тяжелее, потому что я люблю видеть людей, а не только слышать. С другой, я понимаю, что сейчас активности ассоциации отвечают потребностям людей, живущих с ВИЧ. Мы помогали организовывать доставку АРВТ-препаратов пациентам. Охват людей в соцсетях стал больше. Мне кажется, что сейчас более видимыми стали проблемы. Пандемия — хорошая проверка на вшивость, в том числе медицинских структур. Центры СПИДа во многих регионах прямо захлебывались волной обращений. И хорошо, что есть НКО, которые помогли не потерять людей на лечении.
Чать людей вернулись на лечение, когда коронавирус стрельнул. Они бросали пить лекарства по разным причинам, но во время пандемии возвращались и говорили: «Раз уж тут вирус, дайте мне таблетки».
Какие у вас ближайшие рабочие планы?
Их много. Добиться, чтобы ВИЧ+ люди могли усыновлять. Повсеместный доступ к заменителям грудного молока в нужном количестве.
Важный момент с мигрантами, которые до сих пор не могут получать лечение в России и должны быть депортированы — это приводит только к тому, что они не лечатся и скрывают свой статус. Много нюансов с мигрантами очень сильно влияют на эпидситуацию, потому что человек постоянно под угрозой. В реанимации его лечить куда дороже, чем обеспечить препараты.
Чтобы людей, живущих с ВИЧ, не прибавлялось. А у тех, кто есть сейчас, были таблетки в доступе. Чтобы любая женщина спокойно могла сказать: «Без презерватива заниматься сексом не буду», — а молодежь могла получить презервативы бесплатно.
Пока же общественные организации создают некий Хогвартс, в котором пациенты знают о своих правах, а общество эти права соблюдает. Очень хочется, чтобы это зазеркалье стало нашей реальностью.
Я работаю в том числе ради будущего своего сына. Чтобы, когда он вырос, проблемы уже не стало, а я бы могла заняться чем-то другим.
Например?
Я бы фотографировала. Одно время серьезно увлекалась этим. Мне нравится запечатлевать всякие моменты: жизни, радости людей, путешествий.
К чему должен быть готов человек, который хочет работать в НКО и в ВИЧ-сервисе в частности?
К тому, что не все будут понимать, зачем он это делает. Должен понимать, что это история про выгорание. Потому что за 15 лет моей работы некоторые проблемы остались прежними. Ты делаешь, делаешь, а ничего не меняется.
Что это работа, сопряженная со стигмой. Даже если ты не живешь с ВИЧ, то к тебе могут относиться так же: «Ага, ты с ними работаешь? Значит, ты тоже такой».
Но также нужно понимать, что это огромное, офигенно сильное сообщество, которое вырастило себя само, пробивая мглу предрассудков, и достигло успехов. Потому что это одно из немногих в мире сообществ, которое слышат.
А если говорить о хайлайтах (моментах заметности, публичности. — Прим. АСИ)? Вам в этом году дали премию Пруденс Мабеле, названную именем активистки из ЮАР, выступавшей за права женщин и детей, живущих с ВИЧ / СПИДом.
Да, это первая женщина в ЮАР, которая открыла свой статус. Она была неимоверно крута. Когда ты понимаешь, что твой труд, твои попытки оценило международное сообщество, — это дорогого стоит. Ты понимаешь, что это всё не зря.
Были мысли, что зря?
Иногда. Ты идешь, добиваешься, а тебе дают только урезанную форму твоей цели. И ты думаешь: ну ё-моё, ребята. Иногда руки опускаются. Но ты не можешь просто так уйти. С менеджерской работы — понятно: передал дела и ушел. А людей ты бросить не можешь. Когда ты видишь изменения. Когда человек говорил, что хочет умереть, но теперь продолжает идти. Это вдохновляет идти дальше. На одном отдельно взятом человеке ты видишь, как меняется общество в целом.