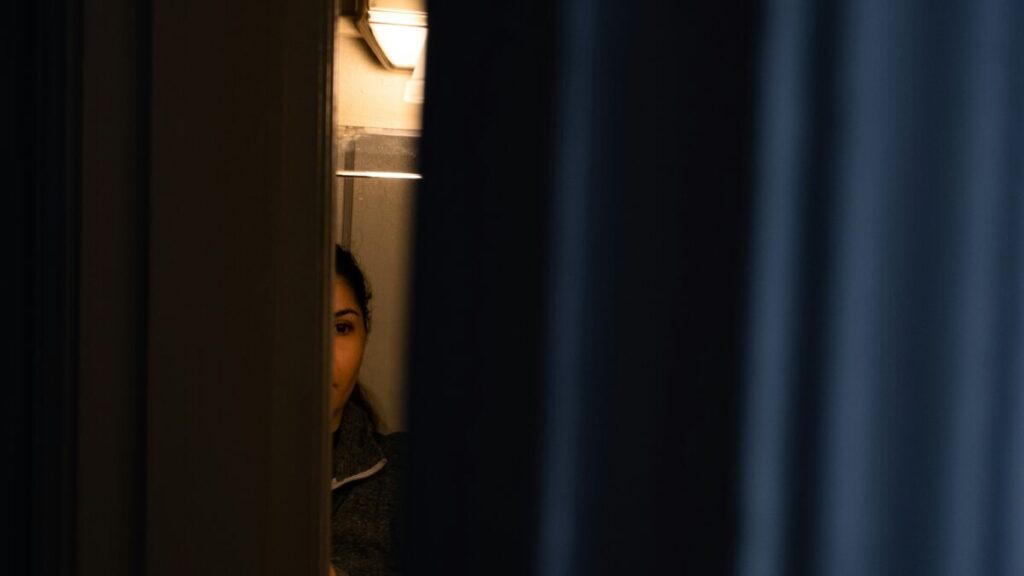Что делать свидетелям насилия — людям, переживающим за судьбу своих близких и друзей, которые, возможно, подвергаются домашнему насилию, АСИ рассказывает Мария Бабина, психолог Нижегородского женского кризисного центра.
Этот текст написан по итогам практикума для молодых журналистов «Как писать о…» Агентства социальной информации и Лаборатории социальной журналистики. Практикум — часть проекта «Проводники социальных изменений», который реализуется АСИ при поддержке Фонда президентских грантов.
Какие психологические трудности испытывает человек, ставший свидетелем насилия?
Главные трудности — это чувство беспомощности и злость. Беспомощность возникает, когда ты видишь происходящее, но не знаешь, как помочь, или когда твою помощь отвергают. Злость — это естественная реакция на несправедливость и собственную неспособность остановить происходящее.
Другое чувство — страх. Само присутствие насилия рядом с нами подтверждает, что, во-первых, оно существует, а во-вторых, оно потенциально опасно для нас. Этот первичный страх часто маскируется другими эмоциями, например, раздражением в адрес пострадавшей. Поэтому мы слышим фразы «сама виновата», «хотела бы, ушла».
Кроме того, существует риск травматизации свидетеля, когда человек, столкнувшись с насилием, начинает испытывать тревогу и страх, что подобное может произойти и с ним. Вплоть до развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Его степень зависит от того, насколько свидетель вовлечен в ситуацию.
Как распознать домашнее насилие, чем оно отличается от бытового конфликта?
При домашнем насилии один из партнеров имеет власть над другим и использует ее манипулятивно — чтобы управлять человеком, унижать его, подавлять с помощью страха. Страх пострадавшая испытывает постоянно, даже если воздействие неявное и открытой конфронтации нет. Например, просто при виде партнера, при мысли о нем или о том, как он отреагирует на какую-то ситуацию. В конфликте же, несмотря на претензии, стороны остаются равными, страха нет.
Бабина выделяет несколько форм домашнего насилия: физическое (любое нежелательное телесное воздействие), психологическое (обесценивание; газлайтинг, при котором жертва начинает сомневаться в своей адекватности; угрозы; изоляция; игнорирование), экономическое (установление финансовой зависимости и контроля), сексуализированное насилие (любое недобровольное сексуальное действие или давление) и репродуктивное насилие (контроль над репродуктивным здоровьем партнера против его воли).
Важно, что у домашнего насилия есть определенный цикл — триада. Сначала в отношениях длится так называемый «медовый месяц», то есть примирение, затишье. Потом напряжение нарастает: агрессор становится все более раздражительным, а партнер чувствует тревогу и старается «не провоцировать». Наконец, происходит вспышка агрессии, то есть инцидент насилия.
Пострадавшая застревает в этом круге, каждый раз надеясь, что агрессор снова станет тем хорошим человеком из первой фазы. Но с каждым витком «медовый месяц» становится короче, напряжение нарастает быстрее, а акты насилия случаются все жестче и опаснее.
Какие признаки могут указывать на то, что человек подвергается домашнему насилию?
Во-первых, человек постоянно выглядит подавленным, потухшим. У него ни на что нет настроения и сил. Иногда эта обессиленность рождает злость, но злость из позиции слабости: пострадавшая не выдерживает давления со стороны партнера и выплескивает это.
Во-вторых, резко меняется образ жизни человека. Например, подруга, с которой вы тусовались и веселились вместе, в один момент перестает ходить на встречи, вдруг меняет стиль в одежде, отстраняется, все время говорит: «Я встречаюсь с молодым человеком, он против». Или оправдывает резкую смену поведения тем, что теперь ей это не нравится и она не хочет сама.
В-третьих, у пострадавшей есть признаки физического насилия: фингал, синяки и тому подобное. Она боится партнера, поэтому, например, может прятать телефон.
Но самое главное — человек не выглядит счастливым и довольным в своих отношениях. И это происходит не периодически, когда у пары случаются сложности, а постоянно.
Как правильно реагировать, если близкий человек признался, что сталкивается с домашним насилием?
Как правило, пострадавшая не осознает, что находится в ситуации насилия. Ей приходится буквально доказывать, что происходящее — ненормально. Те, кто открыто говорит, что испытывает насилие, — скажем так, осознанные жертвы, которые поняли, что попали в тяжелую жизненную ситуацию.

Самое важное здесь — не отрицать факт насилия и не пытаться подменять понятия, убеждая: «Помиритесь потом».
Нужно спросить, какие признаки насилия отмечает человек, а затем поддержать его и подчеркнуть, что он не виноват в этой ситуации. Почему?
Фото: Celine Ylmz / Unsplash
Потому что мы всегда вступаем в отношения, стремясь к счастью. Но намерения партнера сознательно или нет могут быть агрессивными. Пострадавшая как будто подписывает контракт, в котором мелким шрифтом прописаны дополнительные условия. Она их не видит и не может заранее от них отказаться. Поэтому нельзя возлагать вину на жертву и делить ответственность пополам, как в здоровых отношениях. Если у пары проблемы во взаимодействии — это одно, но насильственные действия — всегда ответственность агрессора.
Как поддержать? Прежде всего быть рядом — дать человеку возможность выговориться и выслушать его без осуждения. Можно посоветовать сделать передышку и хотя бы на время дистанцироваться от партнера, выбрать свою безопасность.
Но принципиально важно не брать на себя ответственность за жизнь другого человека и его решения. Мы не можем помочь, если близкий говорит, что ему плохо, но сам он не готов делать шаги, чтобы выйти из ситуации. Например, подруга признает, что ее партнер — абьюзер, но месяцами не предпринимает ничего и не слушает советы.
Все, что может сделать здесь хороший друг, — побуждать к изменениям, напоминать о внутренних силах, ждать, когда она что-то сделает сама, и быть готовым в этот момент помочь.
Иногда пострадавшая может разозлиться на свидетеля насилия и обвинить его в бездействии, так бывает. Лучшая поддержка — сказать: «Я рядом, когда ты будешь готова. Помогу найти психолога или юриста».
Можно ли вытянуть человека из ситуации домашнего насилия силой — например, увезти или заставить уйти?
Технически можно, но это, наоборот, может навредить. Если человек не ушел сам — например, мы переместили его в безопасное место, — значит, внутренний механизм, который удерживал его в опасной ситуации, никуда не делся.
В результате высока вероятность, что человек вернется или попадет в другую ситуацию, где вновь столкнется с насилием. Другой вариант — он перенесет вину на спасающую сторону и обвинит ее в последующих неприятностях. Ведь, как правило, автор насилия пытается вернуть партнера. Поэтому насильно лучше ничего не делать. Не вытаскивать и уж точно не разговаривать с агрессором.
Как правильно поддерживать человека, если он возвращается к автору насилия?
Прежде всего сказать, что он не виноват, просто у него сейчас нет сил, чтобы уйти, но нужно продолжать их искать. Затем помогать пострадавшей сохранить связь с реальностью и занять четкую позицию: «То, что происходит, — неправильно».
Когда пострадавшие возвращаются к обидчику, часто надеются, что все изменится. Здесь можно мягко, но уверенно сказать, что эти изменения, скорее всего, временны. Опираясь на знание о цикле насилия, можно предсказать, что партнер снова проявит агрессию — и вы почти наверняка не ошибетесь. Паттерны насилия очень предсказуемы.
Пострадавшим часто кажется, что их ситуация уникальна. Но как только они начинают общаться с другими жертвами или что-то читать, то обнаруживают, что их история — часть общей, увы, очень распространенной и повторяющейся схемы.
Иногда люди возвращаются, потому что их шантажируют детьми, имуществом, здоровьем родителей. В этой ситуации нужно помочь человеку разработать план безопасности. Сам факт возвращения означает, что он не видит способов противостоять давлению. Наша задача — вместе с ним найти законные способы, чтобы избежать преследования.
В чем разница между помощью ребенку и взрослому, живущему в ситуации насилия?
Основное отличие в том, что ребенок не может уйти из семьи по собственному желанию. Взрослого могут сдерживать разные обстоятельства, но у него такая возможность все же есть.
Со взрослым мы работаем над тем, чтобы он обеспечил свою безопасность — ушел, нашел укрытие. С ребенком все зависит от конкретной ситуации. Пока взрослый, несущий за него ответственность, не создаст для ребенка безопасную среду (а без этого никак), наша задача — минимизировать вред от его пребывания в травмирующей обстановке. Поддержка должна продолжаться до тех пор, пока ребенок не окажется в безопасности.
После фокус работы смещается на предотвращение закрепления травмы. При этом мы всегда работаем и со значимым взрослым, потому что без его участия помочь ребенку крайне сложно. Это правило распространяется не только на случаи насилия, но и на любую психологическую помощь: эффективная работа с ребенком невозможна без вовлечения взрослого.
В каких случаях стоит обратиться в полицию или другие органы?
Всегда, когда есть угроза жизни или здоровью. Даже если пострадавшая пока не решила, остаться или уходить, вернуться или нет. Если есть прямая угроза, всегда нужно обращаться в полицию. Если прямой угрозы нет, сначала нужно обратиться к юристу, составить план безопасности, в том числе продумать, в каких случаях звонить в полицию и что говорить.
Но нужно помнить, что на этапе затишья обращение в полицию может спровоцировать новую волну агрессии. Поэтому прежде человек должен найти безопасное укрытие и продумать, как будет защищаться от возможного преследования.
Говоря о других учреждениях, при получении физических травм нужно обращаться в травмпункт. Это важно не только для безопасности (некоторые повреждения могут быть скрытыми), но и для фиксации побоев. Медицинское заключение служит доказательством в суде, поскольку просто на словах невозможно доказать, что человека бьют.
Вопросы, связанные с органами опеки, надо решать с юристом. Потому что может случиться так, что к исходной проблеме насилия добавятся судебные споры о детях. Органы опеки обязаны защищать интересы ребенка. Если им станет известно о фактах насилия в семье, они могут принять меры как в отношении отца, так и в отношении матери — в зависимости от ситуации. Это, к сожалению, не редкость, поэтому и нужна помощь юриста.
Как свидетель может помочь себе?
Первая помощь — обеспечить собственную безопасность. Оказавшись в безопасном месте, важно проговорить себе: «Это происходит не со мной. Да, это пугает, но это не моя реальность. Я в безопасности».
Дальше нужно обратиться за помощью. Можно сходить на несколько консультаций к психологу (не обязательно прибегать к длительной терапии) и обсудить происходящее с ним. Можно обратиться к друзьям или близким, которые разделяют ваши взгляды на ситуацию и помогут отвлечься, наполнить жизнь положительными эмоциями.

В крайних случаях, когда нарушается физиологическое состояние — человек перестает пить, есть, спать или, наоборот, спит слишком много, наносит себе вред, — необходима консультация невролога.
Где проходит граница между поддержкой и спасательством?
При поддержке вы не вовлекаетесь в жизнь другого человека слишком сильно. Вы сохраняете трезвый ум, то есть эмоционально не проваливаетесь вслед за пострадавшим и четко понимаете, где заканчивается ваша ответственность. Мы можем отвечать только за свои мысли, чувства и действия, но не за поступки другого человека.
Спасательство основано на иллюзии, что наши действия гарантированно помогут другому. И у спасателя одна цель — чтобы пострадавший ушел из опасных отношений. Если смотреть на механику процесса, он присваивает себе власть над другим человеком и действует так же, как и насильник, но с более благородными намерениями.
При поддержке нет желания подчинить себе человека. И естественно, у поддерживающего может возникать чувство разочарования, потому что реальность расходится с ожиданиями. Здесь важно проживать эти эмоции: не переносить их на пострадавшую сторону, не требовать от нее действий и не использовать ее для решения своих внутренних проблем.