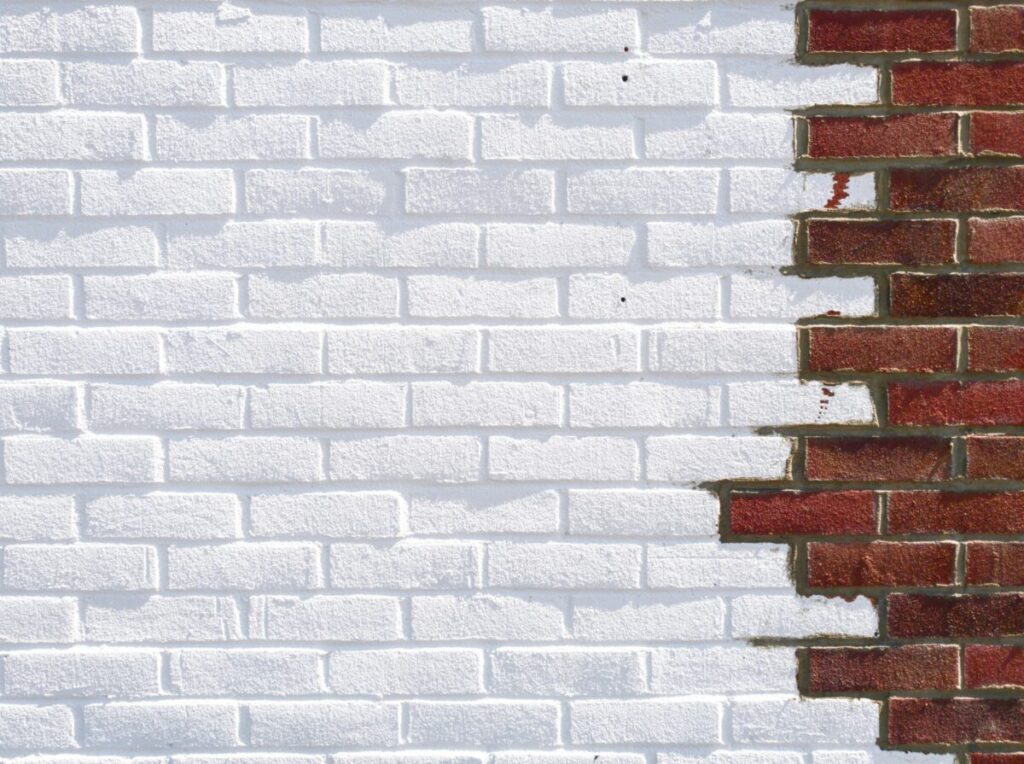Текст подготовлен по следам дискуссии «Трудные вопросы третьего сектора: решить нельзя смириться», прошедшей на профессиональной конференции для НКО «Маршруты помощи» 10 июня. Полная запись сессии здесь.
Эксперты обсудили острые проблемы сектора, которые игнорируются обществом и не решаются государством по тем или иным причинам.
«Невозможность решить социальные проблемы нередко приводит сотрудников НКО к выгоранию, из-за чего закрываются целые программы и проекты. Мы поговорим о тех вопросах, закрыть которые до сих пор не получилось, а также предложим варианты для их решения» — такими словами открыла дискуссию Татьяна Зальцман, завкафедрой социальной работы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Эпидемия деменции
Александра Щеткина, президент благотворительного фонда «Альцрус», создатель сети альцкафе «Незабудка», считает, что одной из главных проблем, связанных с деменцией, является низкая осведомленность о заболевании среди населения.
Причем, отмечает Щеткина, если сам термин «деменция» за последние годы и стал звучать чаще, то люди все равно не осознают, насколько это серьезное заболевание.
«Повышать осведомленность очень важно. Чем раньше семья заметит признаки деменции у родственника, тем больше шансов сделать его дальнейшую жизнь более качественной и комфортной — и для самого человека, и для его семьи», — уточняет эксперт.
Сейчас же все происходит в точности до наоборот. По словам Александры Щеткиной, за помощью в организации люди обращаются уже тогда, когда близкий начал совершать что-то из ряда вон выходящее: проявлять агрессию, убегать из дома, обвинять семью в воровстве и прочее.
Для пациентов с диагнозом «сахарный диабет» и «астма» при поликлиниках действуют специальные школы. И хотя сейчас происходит настоящая эпидемия деменции, ничего подобного для людей с болезнью Альцгеймера в России не существует, делится Щеткина.
И это несмотря на то, что у некоммерческих организаций, профилирующихся на старости, уже накоплен богатый опыт в проведении таких образовательных мероприятий — государство просто не масштабирует его на федеральном уровне.
Если «словить» деменцию на ранних стадиях и начать маршрутизировать семью, в плюсе оказываются все.
- Качество жизни пациента улучшается, болезнь медленнее разрушает головной мозг.
- Близкие, ухаживающие за ним, перестают быть прикованными к дому — продолжают работать и строить свою личную жизнь.
- Снижается нагрузка на медицинские учреждения, так как обращаться в них начинают гораздо позже.
- Работающие близкие больного с деменцией продолжают платить налоги государству, строить семью и рожать детей.
Решение
Ольга Васильева, заместитель директора благотворительного центра «Хэсэд Авраам» и директор фонда целевого капитала «Человек рассеянный», добавила, что в центре действует полная модель профилактики деменции. Она подразумевает уход за пациентом, начиная с ранних стадий и заканчивая паллиативным лечением в пансионате для пожилых.
Уход может оказываться как на дому, так и на условиях полустационара. «Плохо так говорить, но это такой как бы детский сад для пожилых людей с деменцией», — объясняет Васильева.
В прошлом году «Хэсэд Авраам» открыли бесплатный центр знаний о деменции, куда можно прийти на стажировку. «Тиражировать эту историю сложно, потому что стажировка длится три дня и, чтобы НКО отправила к нам в Питер людей учиться, нужны деньги — на билеты, проживание и так далее. А затем нужны еще большие деньги — для адаптации собственной деятельности с учетом полученных знаний», — говорит эксперт.
Существуют и инфраструктурные решения, на которые не осмеливаются уже девелоперы недвижимости. Несмотря на то что количество стареющих людей в России в разы превышает число рожденных, в новых ЖК продолжают появляться детские сады, а не дневные центры для пожилых людей, куда взрослые дети могут привести своих родителей перед тем, как уйти на работу, рассказывает Васильева.
Агрессивные и труднокурабельные пациенты
Надежда Степунина, врач-психиатр, директор по развитию РБООИ «Изумрудный город», замдиректора Центра психологической помощи «Игра», подняла проблему отказа медицинских и социальных работников от пациентов с психиатрическими заболеваниями — особенно от тех, кто проявляет агрессию. Основная причина отказа — угроза жизни и здоровью сотрудников или собственному здоровью (в случае аутоагрессии).
Обычно после отказа пациенты просто отправляются домой, где продолжают представлять опасность уже для своих близких. Сложность заключается в том, что и оставить такого человека одного родственники не могут.
В этом случае проблемы делятся на подгруппы:
- Неверно подобранное лечение.
Решение: грамотный подбор терапии. Сложность может возникнуть только с поиском хорошего врача — зачастую в ПНД из-за текучки кадров и большого числа пациентов медкарты каждого из них изучаются недостаточно тщательно. Можно обратиться в НКО, которые обладают собственной медицинской лицензией (ЦЛП, например) или сотрудничают с медицинскими центрами.
- Труднокурабельные или фармакорезистентные пациенты.
В данном случае проблема заключается не в том, что верное лечение не подобрано, а в том, что большинство схем лечения и медикаментов просто не работают. То есть агрессивное поведение у пациента сохраняется вне зависимости от метода лечения. Родственники могут положить такого пациента в психиатрический стационар, но только на короткий срок. При этом выпишут его оттуда без улучшений, с совсем незначительной положительной динамикой, но для родственников это может стать небольшой передышкой.
Решения для труднокурабельных пациентов на сегодняшний день не существует. Степунина рассказывает, что сейчас обсуждается создание комиссии, куда бы входили представители Минздрава, соцслужб и НКО, которые вместе подготовили бы модель помощи для таких пациентов.
Взаимодействие НКО и государства: партнерство или конкуренция
«Это моя боль. Создавать проекты, работать с благополучателями, разрабатывать планы и стратегии — с этим проблем нет, мы постоянно растем. Весь сектор растет не только количественно, но и качественно. Но государство к нам по-прежнему относится как к неразумным детям», — говорит Лана Журкина, директор центра медико-социальной помощи бездомным «Дом друзей».
В регионах, где у НКО есть поддержка губернатора, благотворительность цветет: масса ресурсов, бесплатные помещения, субсидии — и губернатор, светящийся от счастья, рассказывает Журкина.
«Московские же НКО всегда в тени. Не работает даже теория шести рукопожатий. Даже если за ручку тебя приведут к заместителю мэра — ты все равно туда не попадешь», — говорит эксперт. Она добавляет, что колоссальная экспертиза сектора не используется при создании законопроектов, — потому они и получаются «такие бестолковые».
Роман Дименштейн, член собрания учредителей РБОО «Центр лечебной педагогики», высказался об отзыве закона о распределенной опеке. По его словам, произошедшее — чуть ли не волшебство, ведь президент РФ Владимир Путин трижды давал поручение о принятии законопроекта, которые поддерживали Совет Федерации, СПЧ и даже лично патриарх Кирилл. И тем не менее он был отозван.
«Это же естественно, что мы хотим, чтобы человек с психическими нарушениями, потерявший родителей, которые за ним присматривали, продолжал жить нормальной жизнью. Хотим, чтобы родители имели возможность позаботиться о будущем своего ребенка. Хотим, чтобы родитель, оставшийся за забором интерната, мог влиять на жизнь и судьбу своего ребенка. Хотим, чтобы существовала внешняя опека, которая могла бы, если что, перевести человека в другое место. Хотим, чтобы после интерната человек мог выбрать для себя сопровождаемое проживание. Почему вдруг это нельзя?» — спрашивает Дименштейн.
Для этого необходимо, чтобы государство предоставляло финансирование тем негосударственным учреждениям, где услуги оказываются более качественно.
Эксперт отметил, что были и отдельные удачи, например появление термина «ограниченная дееспособность», но в целом — путь изменения государственной парадигмы от изоляции к интеграции долог и труден. Один эпизод отклоненного законопроекта уже не смущает сектор: «Мы видели много сопротивлений и оборон. Это все ломается изнутри, ведь скорлупа твердая только снаружи».