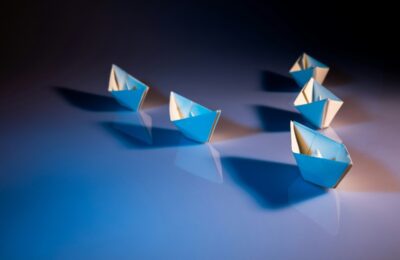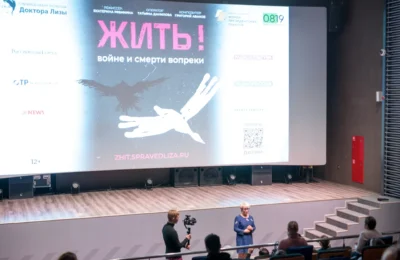Этот текст написан по итогам практикума для молодых журналистов «Как писать о…» Агентства социальной информации и Лаборатории социальной журналистики. Практикум — часть проекта «Проводники социальных изменений», который реализуется АСИ при поддержке Фонда президентских грантов.
Кризис начинается с еды
Когда Володе было полтора года, он мог не есть сутками. Не потому, что капризничал, — просто не чувствовал голода. Его мама Анастасия Татарчук вспоминает, как сын давился твердой пищей: даже небольшой кусочек вызывал у него рвотный рефлекс. Ребенок перестал есть привычные продукты и отказывался даже касаться ложки.

По словам Анастасии, чтобы накормить сына, мог уйти весь день. Володя соглашался есть только под рекламные ролики, и родным нужно было листать каналы, ждать нужный момент. «У сына не было никаких предпочтений в пище, ему ничего не хотелось. Еда стала наказанием для всех», — вспоминает мама.
Фото из архива Анастасии Татарчук
Постепенно семья стала все реже выходить из дома: с собой приходилось брать термосы, специальную еду и искать, где ее разогреть. Потом заметили, что под светом рекламного щита Володя ест спокойнее — стали ходить туда специально.
Однажды родители решили не настаивать — пусть он сам сделает выбор. «Проголодается — поест», — подумали они. Володя продержался сутки, но так и не притронулся к еде.
Параллельно менялось и поведение Володи. Мальчик перестал встречать папу у двери, не отзывался на имя, часто прятался за шторой. Семья обращалась к врачам, но, по словам Анастасии, в ответ слышала: «зубы», «стресс», «перерастет». Не выдержав неопределенности, Анастасия решилась на первое обследование — проверку слуха. Все оказалось в норме. «Я расплакалась. Потому что поняла — это не слух. А если не слух, значит, все серьезнее», — вспоминает она.
Диагноз «аутизм» для Володи впервые прозвучал в Израиле, куда семья поехала, потому что подходящих специалистов в России найти было почти невозможно. Российские врачи об аутизме не говорили — или не хотели, предполагает мама.
Даже воду не пил
Почти 90% детей с аутизмом имеют проблемы с пищевым поведением. Как объясняет поведенческий аналитик центра социальной адаптации и реабилитации особых детей с ментальными нарушениями «Пазлики» и руководитель проекта социально-бытовых навыков Алена Бан, некоторые дети с РАС могут есть только при определенных условиях — например, в привычной обстановке.
Иногда дети отказываются от еды совсем. Причиной могут быть боль, нарушенное ощущение голода или, что бывает чаще всего, сенсорная перегрузка. Она возникает, когда вкус, запах или текстура еды ощущаются слишком резко, и ребенку трудно это выдержать. Отсюда жесткие ритуалы, страх перед новыми продуктами и особые реакции.
У детей с РАС пищевая избирательность часто сочетается с нарушениями в коммуникации, объясняет Бан. Дело не в отстраненности — ребенок просто не понимает, как выразить свои потребности или как вести себя в конкретной ситуации. При этом сама еда редко вызывает перегрузку, но звуки и запахи на кухне — вполне, отмечает эксперт.

В Израиле выяснилось, что у Володи нарушена имитация: он не может повторять за взрослыми, как это делают другие дети. Люди учатся с помощью подражания: говорить, играть, есть. Без имитации ребенку трудно освоить даже простые вещи, и в израильском центре с Володей начали развивать этот навык.
Но по возвращении домой он перестал есть совсем, даже воду не пил. «Сын сильно похудел, и у него вывалился огромный живот, а ручки при этом были такие худенькие», — вспоминает Анастасия. В больнице обнаружили воспаление желудка — еда вызывала боль, но Володя не мог это объяснить и просто не ел.
После лечения состояние Володи улучшилось, но тревожиться семья не перестала. «И все равно было очень страшно, — говорит Татарчук. — Страшно, что это ненадолго. Что снова все сорвется».
Тост по списку
Уже девять лет Володя ходит в «Пазлики» — центр для детей с аутизмом и другими ментальными особенностями. Здесь 14-летнему подростку помогают освоить социально-бытовые навыки, он общается с другими детьми и социализируется.
— Сегодня мы готовим тосты! — объявляет педагог «Пазликов» и ведет детей на кухню.
Ребятам предстоит сделать тосты с ветчиной. Володя берет карточку с пошаговой инструкцией: достает продукты из холодильника и аккуратно выкладывает их по списку. Хлеб отправляется в тостер, на теплые ломтики кладется ветчина. Володя сам нажимает кнопку на чайнике, берет пакетик и заваривает чай. При этом успевает ставить галочки в списке за каждый выполненный шаг.



Занятия в «Пазликах» строятся на прикладном анализе поведения (ABA) — системе, где каждый сложный навык разбивается на простые шаги. Еще один метод — шейпинг, при котором взрослый поэтапно поощряет все более точные действия ребенка, приближая его к желаемому поведению. Например, ребенок сначала говорит «ма», чтобы получить машинку, потом — «машина», потом — «дай машинку». Каждый раз взрослый поощряет чуть более точное действие, качественно улучшая реакцию ребенка, объясняет Бан.
В конце урока Володя, причмокивая, ест бутерброд и пьет чай, держась за кружку двумя руками. После — убирает посуду, вытирает стол и улыбается.
«Ограниченных» детей нет
Эти занятия стали возможными благодаря «Ауре» — городской общественной организации, которую в 2014 году в Томске создали родители детей с аутизмом. По словам председателя организации Ирины Гришаевой, они объединились, чтобы помочь своим детям, потому что понимали: условий для ребенка с РАС в городе нет.
Детей называли «поведенческими». Педагоги не знали, как с ними работать, поэтому поход в школу — обычную или коррекционную — был закрыт. Родителям пришлось самим учить специалистов, которые могут заниматься с детьми и помогать им адаптироваться в социуме.
Чтобы занятия были регулярными, в 2019 году «Аура» открыла центр «Пазлики». В нем проходит профессиональная подготовка для специалистов и уроки по социально-бытовым навыкам для детей.
Тьюторы работают с детьми в небольших группах — по три–четыре человека, подобранных по возрасту и уровню навыков. Одни учатся соблюдать правила безопасности на кухне, другие — ориентироваться на визуальные подсказки при готовке, третьи — выполнять задания по списку. У всех детей одна цель — научиться выполнять действия с максимальной самостоятельностью.
По словам Бан, у одних детей это получается легко, а другим нужно повторить одно действие множество раз — на кухне центра, на домашней кухне и у бабушки. «Это нормально. Дети учатся с разной скоростью и разной поддержкой», — говорит поведенческий аналитик и подчеркивает, что «ограниченных» детей нет — есть неадаптированная среда и отвлекающие внешние факторы.

Сдал зачет по картошке
После лечения Володя снова захотел есть. Страх перед едой уходил медленно, мальчик все чаще пробовал что-то необычное для себя — от мягких маффинов до рыбы. «Я ушла на собрание, а муж прислал фото: Володя сам ест рыбу. Первый раз», — улыбаясь, говорит Анастасия.
Сенсорная работа и терапия вернули Володе интерес к готовке. «Когда я на кухне, сын рядом — помогает», — говорит мама. Сейчас подросток сам собирает себе завтрак, готовит с семьей ужин, уверенно нарезает овощи. В школе Володя сдал зачет по картошке: нарезал овощи кубиками, соломкой и кружочками.
Помогает в адаптации и режим. «Володя знает, что в обед — суп, а на ужин — мясо и гарнир. Это успокаивает сына», — говорит Татарчук. Для детей с РАС четкий распорядок особенно важен: он снижает тревожность, помогает формировать привычки и дает ощущение контроля, объясняет Бан.
Володя больше не воспринимает еду как испытание, считает Анастасия. Однажды он решил сам приготовить салат. Нарезал огурцы с листьями салата, выложил в миску и сел есть — без масла и соли. «Смотрю на него, а он сидит, ест, и видно, что давится, но продолжает. Серьезный такой. Мы посмеялись. Я говорю: “Володь, давай покажу, как надо. Сейчас масло и соль добавим, и вкусно будет”. Он кивнул. Теперь заправляет правильно», — рассказывает Анастасия.


Для Володи этот салат был не открытием нового вкуса, а осознанием: «я могу», «я сделал», «я понял», считает мама.
Получить похожую помощь могут семьи и в других городах. Собрали список организаций, которые помогают детям с РАС развивать повседневные навыки:
- Центр социальной адаптации и реабилитации особых детей с ментальными нарушениями «Пазлики» (Томск);
- Благотворительный фонд «Искусство быть рядом» (Москва);
- Центр «Наш солнечный мир» (Москва);
- Благотворительный фонд «Я особенный» (Екатеринбург);
- Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов «Искра надежды» (Воронеж);
- Адаптационно-педагогический центр «РАСсвет» (Иркутск).